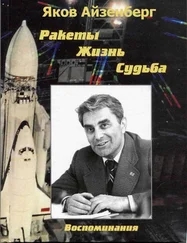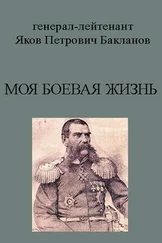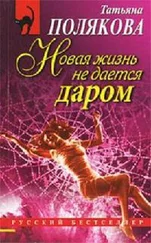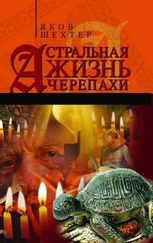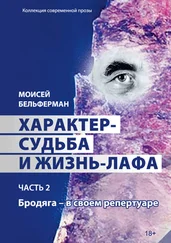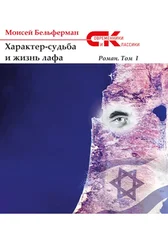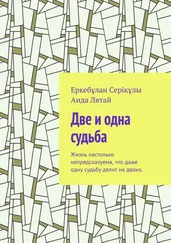А произошло вот что. Завхоз станции решил почистить цистерны, раз уж они оказались на полдня без горючего. Цель благая. Использовать студентов на различных работах вроде как не возбраняется, но необходимо было обеспечить при этом двухсотпроцентную технику безопасности, тем более посылая молодого человека практически в газовую камеру! Да, ему надели акваланг, чтобы не дышал газами в раскаленной на солнце цистерне, но маску–то ему никто не выдал. Нос, не защищенный маской, все равно вдыхал смертельно ядовитые испарения. Количество воздуха в акваланге никто не проверил: он кончался в аппарате, и студент потихоньку и неизбежно отравлялся через нос, ему стало трудно дышать не только от отравления, но и от тяжести вдоха через легочник акваланга. Он снял загубник, чтобы сделать полный, как оказалось, роковой вдох и тут же потерял сознание. Приди мы на пару минут позже, скорее всего, уже никакое искусственное дыхание ему бы не помогло. Биохимики объяснили мне за ужином, что я полез на верную смерть, и только какое–то чудо не позволило мне не задохнуться и не потерять сознание.
Лаборатория работала с интересом и в полную силу. Выполнялись аспирантские темы, защищались диссертации на соискание ученой степени. Однако районным, городским и краевым властям профсоюзного и партийного уровня было непонятно, что это за палеоэкологические исследования? Экология тогда только–только поднималась на щит. Проверки следовали одна за другой. Я старался доходчиво рассказывать, чем мы занимаемся и для чего это нужно, но каждый раз заканчивая одним и тем же: «Колбасы от наших исследований не станет больше, и она не будет дешевле». В то время шмат приличной докторской колбасы, добытый по случаю, был почти счастьем для большинства советских людей. Все и всё мы тогда не покупали, но доставали различными путями — от куска колбасы и туалетной бумаги до импортной обуви и автомобиля. Связи, знакомство, блат и телефонное право были движущей силой «особой общности» — советских людей. И хотя не по одному показателю: научному, профсоюзному, массово–культурному или, упаси боже, моральному претензий не возникало, раздражение у многочисленных комиссий не пропадало. В результате пришлось переименовать название лаборатории и несколько изменить направление ее исследований. После этого были только плановые проверки органов Академии наук.
Другим отличительным и обязательным атрибутом нашей жизни 60–80 годов ХХ века была шефская помощь долгостроям, овощебазам, колхозам и совхозам. Сентябрь–октябрь практически ни одно научное учреждение полноценно не работало, так как все были в поле, где шла «битва за урожай» картошки, капусты и различных корнеплодов. Тех, кто этим должен был заниматься по определению и за сельскую зарплату или трудодни, на полях не было видно. Недели проходили в бестолковом безделье. Я проводил учет ежедневной занятости наших сотрудников на поле. Почти 90% сотрудников четырех лабораторий было не занято никаким трудом в течение двух недель. Приложив эти данные к рапорту на имя директора, я объяснил, почему я не считаю возможным участвовать в «шефской помощи». Перед тем как коллектив института отправлять «на картошку», в штат института временно нанималась бригада строителей из четырех человек, которые раньше нас уезжали в село и оборудовали лагерь для будущих шефов. Мы с сотрудниками лаборатории предложили прекратить эту практику, вместо этого посылать мужскую часть нашей лаборатории на строительство и оборудование такого лагеря в зачет пребывания всей лаборатории на «картошке». После некоторых раздумий дирекция приняла наше предложение.
К одной из сотрудниц института Лене Комковой на остров приехала ее подруга из одного дальневосточного города. Она попала на море первый раз и была поражена красотой островов, мимо которых шел паром до нашей биостанции. Лена попросила меня прокатить их по заливу на катере, показать все наши достопримечательности и организовать рыбалку. На следующий день мы, взяв рыбацкие снасти, картофель и необходимые приправы для ухи, отправились на отдых. Светило яркое солнце, дул легкий северо–восточный бриз, мы обдуваемые ветерком неслись на катере, рассекая волны. Чтобы лучше осматривать проносящиеся мимо пейзажи, мои стройные спутницы стояли по бокам от меня в купальниках, слишком закрытых, по моему мнению. Бикини еще не пришли за «железный занавес», в то время как женщины почти на всех пляжах капиталистического мира не чурались показа своих почти не одетых прелестей, а на тропических пляжах Сейшельских и Мальдивских островов многие вообще загорали с обнаженной грудью к удивлению и удовольствию наших рыбаков и научных сотрудников.
Читать дальше