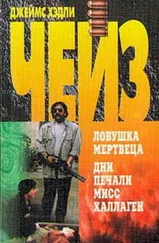Последующие несколько дней он с приятным возбуждением работал над вступительной речью. Картины Коларова он знал очень хорошо, безошибочно узнавал их на выставках, бывал и в мастерской, так что отстукать пару страничек большого труда не составило бы, но ему хотелось добраться до сути, хотелось сказать об этих картинах что-то конкретное, такое, чего никто еще о них не говорил. Он напрягал память, ища в ней образы с картин Коларова, пока наконец они не слились в нечто единое. Теперь он и сам не мог бы определить, что создано художником, а что придумал он, Александров. И вот, перепечатанная набело, без зачеркиваний и исправлений, речь лежит в кармане пиджака. Время после окончания этой работы тянулось медленно, оставалась лишь психологическая подготовка к предстоящему путешествию, и он чувствовал себя опустошенным. Решимость покинула его, а всяческие предполагаемые неудобства показались ему, человеку, живущему удобно, чем-то совершенно непереносимым.
И только нынешним утром, когда необходимость действовать вызвала в нем смятение, он, преодолевая это смятение, почувствовал прилив энергии и на вокзал пришел в приподнятом настроении. А благодарность Коларова, который улыбнулся, жмурясь от солнца, сжал руку и с облегчением воскликнул: «Ну, вот ты и пришел!» — окружила его миссию ореолом дружеского самопожертвования.
…Путь их долог был и утомителен. На станции нужно было пересесть в автобус, но они все прохаживались по перрону, надеясь, что кто-то наконец выскочит из толпы и предложит волшебно-легкий способ добраться до места. Однако вместо неизвестного благодетеля подошел человек в фуражке железнодорожника и объяснил, что им нужно торопиться, если они хотят попасть в городок сегодня: автобус отойдет через десять минут, а следующий будет только утром.
К автостанции они прибежали вспотевшие, запыхавшиеся, особенно писатель: тяжелый чемодан, шляпа и зонт словно сговорились ему мешать. Художник, не замечая его мучений, несся впереди.
Автобус был полон, но они увидели два свободных места и стали к ним пробираться. Чемодан и зонт Александрова задевали за чьи-то колени, спины, головы; писатель непрерывно извинялся направо и налево, но вот какой-то здоровяк выхватил у него из рук вещи, плавным движением перенес их по воздуху и прислонил к кожаным спинкам сидений. Только теперь Коларов заметил, какой у писателя измученный вид, и, то ли с сочувствием, то ли с насмешкой над самим собой, то ли с саркастическим обвинением, проговорил:
— Ну и путешествие! Могли б уж с машиной нас встретить!
Писатель тоже понимал, что могли бы, но промолчал. С самого начала уже капризы, подумал он, хотя в устах художника это прозвучало абсолютно естественно и в высшей степени справедливо.
Они располагались в креслах с такой обстоятельностью, словно нужно было ехать еще целый день, и вдруг переглянулись: их обдало кислым запахом зверя. Напротив, через проход, сидел маленький человечек с обросшими почти до глаз скулами, а в проходе у его ног стоял грязный дощатый ящик, из которого высунулась обезьянка. Была она из тех, что выступают на ярмарках: неухоженная, с оскаленной мордочкой, с длинным хвостом. Она важно им кивнула и взвизгнула.
— Стефания приветствует вас! — проговорил человечек высоким тонким голосом… — Она рада, что вы пришли. Стефания, подай гостям руку, поздоровайся!
Стефания протянула лапку. Художник охотно ее взял, подержал в своей ладони, подмигнул зверьку и весело расхохотался, когда обезьянка ответила ему тем же. Александров едва тронул ее скрюченные пальчики, забился в угол и затих.
Человечек, казалось, только и ждал их появления. Его заросшие скулы расплылись в довольной улыбке. Он вытащил из брошенной в ногах торбы гудулку и подал обезьянке знак.
— Ну-ка, Стефания, покажи гостям, что ты умеешь. Покажи свои способности и таланты, чтоб рассказывали они о тебе повсюду.
С других кресел начали оборачиваться люди: одни — недовольные, что нарушают их покой, другие — и таких было большинство — с оживившимися лицами. Путешествие становилось интересным. Обезьянка поклонилась так низко, что передними лапками встала на пол, и опять взвизгнула. Обросший человечек коснулся смычком струн и гнусаво затянул какую-то медленную песню, сочиненную, наверное, им самим. Слова разобрать было трудно: в каком-то селе случилось какое-то чудо, а какое именно — так никто и не понял, потому что мелодия вдруг оборвалась и возник ритм старинной городской песни. Обезьянка, которая до этого момента подпрыгивала со свирепым удовольствием, принялась теперь плавно кружиться, обняв протянутой вперед правой передней лапкой воображаемого партнера. Когда мелодия сменилась, она подергала задом в ритме джаза, словно бы изображая сладострастный блюз, и закончила присядкой из рученицы, а вернее просто уродливым кривляньем.
Читать дальше