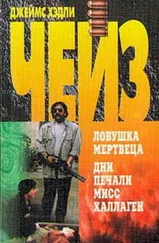Главный вскрыл пакет и, держа в руке маленький деревянный кружок, рассматривал его, хмуря свои густые светлые брови.
— Больше он ничего не сказал?
— Сказал, что вы вместе учились в школе, а потом на одном факультете.
— Вот как, — кивнул Главный, и морщинка на переносице стала глубже. — Как меняются люди, Вероника, как меняются! Этот африканский сувенирчик, попомните мое слово, самое позднее через неделю попросит назначения в Центральное проектное бюро… Уберите. — И он, прежде чем взять чашку кофе, досадливо подтолкнул деревянный кружочек к краю стола.
Но незнакомец не пришел. Ни к концу первой недели, ни к концу второй. И вообще не пришел. Сначала Главный спрашивал о нем, никак не выказывая своей заинтересованности, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как бы между прочим, потом стал спрашивать напрямую, с каким-то растущим нетерпением и нервозностью, которые секретарша не могла понять.
— Этот, мой однокашник, не приходил?
— Нет, — отвечала секретарша.
— Придет — пустите тотчас… — Главный останавливал тяжелый взгляд на черном идоле. — Даже если будет совещание.
Идол стоял на полке, прислоненный к книгам, между вазами, раковинами, и пыль, покрывшая его, еще отчетливее обозначала выпирающие скулы.
— Знаете, Вероника, — сказал однажды утром Главный, — каждый день гляжу я на этого идола, и кого-то он мне напоминает. На кого-то он похож, но на кого…
Перевод Л. Хитровой.
Георгий Величков
АИСТ НА СНЕГУ
Путь их долог был и утомителен. Поезд часто делал длинные остановки, люди входили, выходили, на станциях покрикивали гудки, до хрипоты надрывались под окнами продавцы мороженого и всякой снеди.
Художник Коларов дремал в своем углу, иногда всхрапывал (одна-две раскатистые басовые ноты), а потом в сумерках неожиданно возникали его глаза и ввергали Александрова в то неприятное, беспокойное состояние, когда надо что-нибудь сказать, а ты не можешь, потому что в голове одна чепуха. Потом вдруг взгляд Коларова начинал кружить по купе, мгновенно охватывая все предметы. Удовлетворенный осмотром, художник возвращался к недоконченной беседе. Говорили о погоде, о посевах, о каких-то общих знакомых, об искусстве. Писатель говорил тихо, выстраивал ответы свои ясно, четко; он чувствовал, что собеседнику они неинтересны, но был, однако, уверен, что именно благодаря им и поддерживается разговор; и когда Коларов опять впадал в дремоту, писателю становилось легче, он потихоньку раздвигал на окне занавески, и его взгляд свободно скользил по долинам, залитым солнцем, по холмам… Но глаза напротив раздражали его, сводили на нет попытки вернуть бодрый настрой. Он удивлялся, что, несмотря на многолетнюю дружбу с Коларовым, лишь сейчас заметил в них какую-то особенность, и полушутя-полусерьезно принялся подыскивать для этих глаз точное определение. «Таинственные», «сверкающие», «притягательные»… До чего ж банальны подобные эпитеты! Он тихонько засмеялся. Смех этот, несколько принужденный, приглушил все же ощущение тоски и беспомощности и одарил его порцией бодрости и смиренной терпимости. Он поехал с Коларовым, чтобы разжечь в себе и затем поддерживать ощущение своей значимости, А кроме того, он чего-то ждал. Это «что-то» не складывалось в определенный образ, но очень его волновало. Оно пробудилось однажды вечером, в ресторане.
Они встретились с Коларовым, и художник попросил, чтобы он произнес вступительную речь на открытии его персональной выставки в одном довольно далеком провинциальном городке. В первый момент ему захотелось отказаться — на письменном столе в кабинете ждала незаконченная книга; и хотя какая-нибудь незаконченная книга всегда ждала его на письменном столе, и хотя какая-нибудь незаконченная книга наверняка останется и после его смерти, Александров, откладывая работу, всякий раз чувствовал, что она довлеет над ним. Да и кроме книги, полно было разных обязательств, выступлений, встреч, привычек, важность коих из-за нежелания ехать выросла вдруг до невероятных размеров, превратившись в серьезное препятствие. Но вопреки всему этому в нем вызревало противоположное решение, питаемое надеждой на некую перемену, которая хоть и обманывала его не раз, но по-прежнему жила в нем, не теряя своей манящей силы. Одолеваемый сомнениями, писатель пообещал, что позвонит на следующий день и даст окончательный ответ. Потом он вышел на улицу, но туман мгновенно загнал его в тесный кусочек пространства, в котором он, словно в лифте, двинулся назад, к дому. Он шел и с каждым шагом понимал все яснее, что никуда не поедет. Он вдыхал горький запах тумана и был убежден, что никуда не поедет. Он слушал звон трамваев, приглушенные голоса людей и уже знал, что никуда, никуда не поедет. На углу Графа Игнатьева и Царя Шишмана в его маленькое пространство неожиданно вступил другой человек. На мгновение он стал виден весь, с ног до головы, а потом исчез. Писатель не успел его разглядеть, но лицо, что промелькнуло перед ним, потрясло его, поманило за собой в туман. Придя домой, он, не раздумывая, сказал жене, что через несколько дней поедет в провинцию, и, сердясь на самого себя, заперся в кабинете. Незаконченная книга искушала переменить решение; он вдумался в природу этого искушения и понял: оно — лишь солидно мотивированное оправдание его нерешительности; и если он поддастся, то надолго будет выбит из колеи сожалениями о чем-то навсегда упущенном. Он изо всех сил старался преодолеть это искушение, он даже призвал на помощь классическое правило, которым раньше не руководствовался: прежде чем закончить книгу, нужно дать ей отлежаться; но на сей раз это правило его выручило, и теперь, в поезде, Александров подумал, что, если б даже и не встретился ему в тумане тот человек, он все равно бы поехал. Увидел бы дерево, или дом, или призрачный замок, или, наконец, придумал бы это все — и поехал бы. Он не упрекал себя за этот поступок и тем более не жалел о нем: он достаточно хорошо себя изучил и примирился с собою. Даже к легкомыслию, с коим пускался он в невинные свои приключения, Александров относился благодушно-насмешливо; это помогало ему выбираться из них без огорчений и с легкостью.
Читать дальше