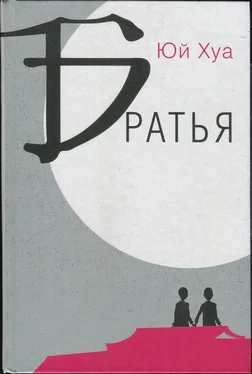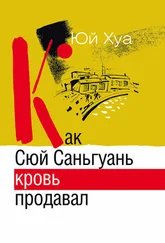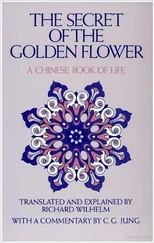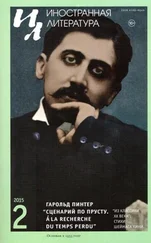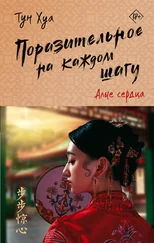— Уже тридцать лет как пишет, а всего одно стихотворение в четыре строчки опубликовал, да и то в каком-то отпечатанном на автокописте* журнальчике. За столько-то лет ни одним знаком препинания больше не накропал, а все говорит, что он поэт. Автокопистный поэт Чжао…
Стихоплет, которого сокращение за пару лет до этого оставило без работы, относился к Писаке точно так же. Когда до него дошли вести о том, как Писака, потрясая своими четырьмя сосисками, издевается над ним, придумывая обидные прозвища, Стихоплет пришел в форменное бешенство. Потом он холодно усмехнулся и сказал, что утверждения таких подхалимов, как этот Лю, можно опрокинуть одним пальцем, тут и четыре не понадобятся. Выставив вперед палец, он произнес:
— Душу продал, барыга.
Стихоплет переехал из прежнего дома, превратившегося теперь в бордель, в убогий домишко у железнодорожных путей на западе поселка. В день мимо его конуры проезжало по сотне поездов, и она всякий раз дрожала, как от землетрясения. И стол, и стулья, и кровать, и шкафы вместе с посудой и палочками, и пол, и потолок тряслись. Писака сравнивал эту тряску с судорогами от удара током. Плоды такого сравнения пожинал он сам: каждую ночь, когда хибара билась в конвульсиях, Стихоплет во сне видел себя привязанным к электрическому стулу и, обливаясь слезами, уже прощался с этим светом.
Обнищавший Стихоплет жил исключительно за счет ренты, которую каждый месяц отчисляла ему Мадам Линь. Хотя он, как и другие, ходил в костюме, но это был на редкость мятый и загаженный костюм. Лючжэньцы, пялившиеся двадцать лет в свои цветные телевизоры, начали потихоньку менять их на жидкокристаллические и проекционные, а порой и на плазменные панели, а Стихоплет Чжао по-прежнему пучил глаза в свой черно-белый телик с диагональю четырнадцать дюймов. Изображение то появлялось, то исчезало. Чжао протаскал его по всей Лючжэни, но так и не нашел никого, кто был бы в состоянии его починить. Тогда он решил исправить дело самому. Когда изображение пропадало, Стихоплет отвешивал телевизору звонкую пощечину, и тот снова начинал показывать. Порой даже после двух ударов картинка не появлялась, и тогда Стихоплет исполнял молодецкую подсечку, выбивая из старенького прибора последние кадры.
Бывший когда-то благовоспитанным малым, Стихоплет сделался теперь жутким мизантропом и даже начал сдабривать речь матерком. Покуда будни Писаки Лю наполнялись женщинами, в жизни у Стихоплета не осталось ни одной. Он пришпандорил на стенку своей хибары старенький календарь с телками и тешил себя несбыточными мечтами. Ни одной живой женщине и в голову не пришло бы поглядеть на него как следует. Он попытался было охмурить пару-тройку немолодых вдовушек, но те с одного взгляда раскусили его замысел и недвусмысленно заявили: пускай сначала себя обеспечит, а потом уж берется толковать о безумной любови. Стихоплета снедала жуткая тоска. Ведь много лет назад у него была очаровательная подружка, с которой они провели в полном взаимопонимании целый прекрасный год. Потом Стихоплет решил сесть между двух стульев и приударить за Линь Хун. Так вот и остался он в конце концов на бобах: и Линь Хун упустил, и подружка сбежала к другому.
А жена Писаки Лю, хоть и осталась весьма довольна своими десятью миллионами на банковском счете, все-таки вышла на улицу с причитаниями. Она жаловалась народу на бесстыдство Писаки, вытягивая обе пятерни, что когда-то должно было обозначать десять случаев, когда он обманул ее невинность, а теперь, повторенное дважды, означало двадцать лет брака. Она твердила, что двадцать лет обстирывала и кормила этого дармоеда и заботилась о нем в любую погоду. Когда Писака потерял работу, она и не думала его бросать, наоборот — стала любить еще больше, печься о нем еще сильнее. Она хвалилась, что тело у нее зимой горячее, а летом прохладное: зимой она согревала Писаку, как печка, а летом охлаждала, как лед. Рыдая, жена Писаки говорила, что теперь у него на уме одни деньги, одно похабство: раньше-то он был невинным мастером слова, вел себя культурно, говорил интеллигентно, да она полюбила его, вышла за него замуж именно потому, что он был Писатель, а теперь ищи-свищи, нет у нее больше мужа…
Тут кто-то из слушателей вспомнил Стихоплета Чжао и решил посводничать.
— Нет больше Писаки, так Стихоплет остался, до сих пор в холостяках ходит. Завидный жених, — сказал доброжелатель.
— Стихоплет? Завидный? — хмыкнула она. — Да он и на помойке завидным не будет. — Жена Писаки подумала, что она теперь первая на весь поселок миллионерша — как смеет кто-то равнять ее с этим голозадым Стихоплетом? Она зло отрезала: — Даже курица на него не позарится.
Читать дальше