— Знаешь, я была на тебя очень сердита, — продолжала Виолета. — Если бы не больница, я бы тебя просто убила!
Я опустил глаза. Мне не хотелось вспоминать о той встрече.
— Представляешь мое положение? — говорила между тем Виолета. — Он пришел ко мне требовать объяснения, зачем я тебя послала!.. Думал, что это я просила тебя с ним встретиться… Что я могла ему сказать? Я вообще не хотела его видеть. А он притащился в город, прямо в библиотеку… Да еще настаивал на медицинской экспертизе, чтобы доказать, что ребенок не его… Представляешь? Я швырнула в него какую-то книжку, кажется энциклопедию. Он не успел увернуться, и книга попала прямо ему в голову…
Я смотрел на нее с испугом, слушая, как она рассказывала о том, что случилось в заводской библиотеке, и ожидал, что она вот-вот отсечет мне голову, чтобы доказать, что я совершил непростительную глупость. Я молчал. Это было самое умное, что я мог сделать в этот момент.
— Он даже чуть не ударил меня. Тоже схватил энциклопедию, но я закричала, прибежали люди… Первым появился начальник цеха Иванчо Бояджиев… Но я была как невменяемая и выгнала и его. Сказала ему, чтобы и он убирался с моих глаз долой…
Ребенок спал, утонув в молочном мире беззаботности, через который когда-то прошли вое мы и о котором забыли. Виолета время от времени посматривала на дочку и продолжала возбужденно говорить:
— Потом я осталась одна, села среди книг и расплакалась. Если бы ты мне тогда попался на глаза, я бы тебя убила… Кто тебе дал право искать отца моего ребенка?
— Я не искал отца, Виолета, — попытался я объяснить ей. — Я хотел совершить возмездие… Ты пойми, нас было двое, сейчас — трое… В конце концов зло, причиненное нам, касается не только тебя и меня. И в известном смысле это не только твой личный вопрос.
— Да, в известном смысле… Ну и что?
— Когда я узнал, что тебя продолжают унижать и преследовать, я страшно расстроился. И потому решил пресечь зло. Решил восстановить справедливость хотя бы по отношению к тебе…
— И оказалось, что не можешь! — возразила она. — Это могла сделать только я сама!
— Не только ты!.. Не забывай и обо мне, и о тех, кто дал тебе работу… Да и о том, кого ты била книгой.
— Возможно, ты и прав, — сказала она, соглашаясь.
Я посмотрел на нее вопросительно, а она пояснила:
— Действительно, люди мне очень помогли. Я не могу пожаловаться. Все до единого проявили ко мне сочувствие и понимание. Было время, когда таких, как я, ставили к позорному столбу… Сейчас же для меня нашлось место в Доме матери и ребенка. Там я спокойно родила. За мной даже прислали машину, когда меня выписывали… И никаких обид, никаких шуточек… Может, я и не заслужила такого внимания…
— Я никогда не сомневался в наших людях! Вначале многие действительно были настроены против тебя, но потом поняли, что тебе надо помочь. Видишь, у нас прекрасные люди!
— Да, они оказались добрее и лучше, чем я о них думала… Не знаю, как и благодарить… Я чувствую себя виноватой перед ними и обязанной им…
— Кто придумал имя ребенку? — спросил я, чтобы перевести разговор.
— Тебе не нравится? Я его сама придумала! Очень красивое имя! Всем оно нравится!
— Правильно.
— Что значит «правильно»? Не люблю этого слова. Оно напоминает мне 1951 год! Сейчас как-то лучше идут дела и без этого «правильно». Даже дети рождаются легче.
— Ты ее зарегистрировала?
— Конечно. Свидетельств о рождении в нашем городе хватит для всех. Ведь мы должны стать десятимиллионным народом!
Она засмеялась, и я понял, что для нее не все прошло бесследно, что ветер еще не разогнал туман, загнездившийся в ее сердце. Чрезмерная радость и чрезмерные восторги ее шли не от хорошего. Нервное потрясение и боязнь людей у Виолеты еще не прошли. Лицо ее, особенно около глаз, было покрыто сеточкой морщин. Радость, как бы она ни была мала, дается нелегко. По крайней мере так мне казалось, когда я видел, как гаснет улыбка Виолеты на ее накрашенных губах, окруженных морщинками. Она постарела, несмотря на ее старания выглядеть молодой и жизнерадостной.
Говорили мы долго. Она простила мне мои прегрешения и посоветовала не заниматься больше защитой без ее согласия. Я ей пообещал это. Потом встал и проводил Виолету до калитки.
— И все же, — сказал я ей на прощание, — мы должны помогать друг другу…
Она мне ничего не ответила.
Я вернулся к себе в палату и долго думал о ней и о ребенке. Медсестра сделала мне выговор, что я слишком долго разговаривал на улице. Заставила меня лечь в кровать до обеда и принесла термометр. Ей показалось, что у меня поднялась температура. И она оказалась права. Я сам себе удивился. Надо же, какой я чувствительный! Всю жизнь меня обвиняли в грубости и черствости. И вот сейчас я нагнал себе температуру в результате обыкновенного разговора. Почему?
Читать дальше
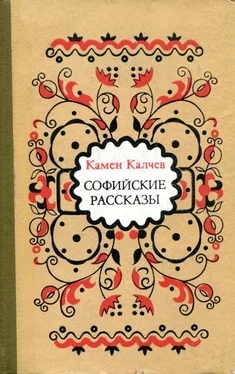







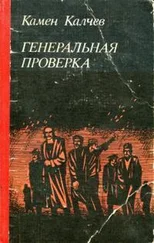



![Александр Кротов - Каменные часы [повести, рассказы]](/books/433419/aleksandr-krotov-kamennye-chasy-povesti-rasskazy-thumb.webp)