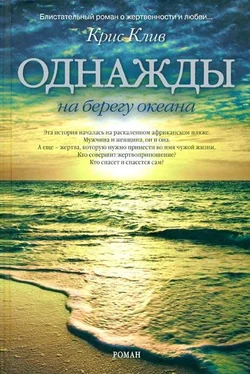Собравшиеся проводить Эндрю в последний путь сгрудились у края могилы, парализованные ужасом происходящего, этим первым подтверждением смерти, которое было хуже самой смерти. Я рвалась к Чарли, но меня кто-то крепко держал под руки. Я хотела вырваться, я смотрела на искаженные страхом лица людей и думала: «Почему никто ничего не делает?»
Но трудно, очень трудно что-то сделать первым.
Наконец Пчелка спрыгнула в могилу, подняла моего сына, и кто-то другой вытащил его наверх. Чарли брыкался и кусался. Его комбинезон, плащ и маска испачкались в глине. Он во что бы то ни стало хотел снова спрыгнуть в могилу. Но Пчелка, которой помогли выбраться наверх, крепко обняла Чарли и оттащила его назад, крича: «НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ!», — а в это время собравшиеся у могилы люди принялись друг за другом бросать в яму маленькие комья глины. Кажется, мой сын кричал невероятно, слишком долго. Помнится, я подумала, не треснет ли мой разум от этого крика, как трескаются бокалы от звучания сопрано. На самом деле несколько дней спустя мне позвонил бывший коллега Эндрю, военный репортер, побывавший в Ираке и Дарфуре [19] Дарфур — регион на западе Судана, место межэтнического конфликта.
, и назвал имя врача-консультанта, специалиста по военным психологическим травмам, к которому он сам обращался. «Очень любезно с твоей стороны, — сказала я, — но это была не война».
Когда Чарли перестал кричать, я взяла его на руки, стала гладить по голове. Он обессиленно прижался к моему плечу. Через прорези в маске летучей мыши я видела, что у него слипаются веки. Пришедшие на похороны люди медленно потянулись к автостоянке. Над черными костюмами расцвели яркие зонты. Начался дождь.
Пчелка держалась рядом со мной. Мы стояли возле могилы и смотрели друг на друга.
— Спасибо, — выдохнула я.
— Не за что, — сказала Пчелка. — Я всего лишь сделала то, что сделал бы любой на моем месте.
— Да, — кивнула я. — Вот только больше никто этого не сделал.
Пчелка пожала плечами:
— Это легче, когда ты со стороны.
Я поежилась. Дождь усилился.
— Это никогда не закончится, — проговорила я. — Правда, Пчелка?
— Как бы надолго ни исчезала луна, однажды она засияет вновь. Так говорили у нас в деревне.
— Апрельские ливни приносят майские цветы. Так у нас говорили.
Мы попытались улыбнуться друг другу.
Я так и не бросила комок глины в могилу. Никуда я его не бросила. Два часа спустя, на минуту оставшись одна дома, около кухонного стола, я вдруг осознала, что до сих пор сжимаю в руке этот комок глины. Я положила его на скатерть: маленький кусочек бежевой земли лег на чистый голубой хлопок. Когда я несколько минут спустя вернулась в кухню, кто-то уже убрал глину со стола.
По прошествии нескольких дней вышла Times с некрологом, в котором было упомянуто о том, что на похоронах бывшего автора колонки этой газеты имели место трогательные сцены. Редактор прислал мне вырезку из газеты, вложенную в конверт из плотной кремовой бумаги. К вырезке был приложен белый листок с выражением соболезнований.
Если бы я рассказывала эту историю девушкам из моей деревни, мне многое пришлось бы им объяснять, в частности смысл простого короткого слова «ужас». Для людей из моей деревни это слово означает нечто иное.
В вашей стране, если вы еще недостаточно напуганы, вы можете пойти и посмотреть фильм ужасов. Потом вы можете выйти из кинотеатра ночью, и какое-то время вам всюду будут мерещиться ужасы. Может быть, вам покажется, что вас дома поджидают убийцы. Вам так покажется, потому что вы увидите, что в окнах вашего дома горит свет, а вы будете уверены, что выключили его перед уходом в кино. А когда вы перед сном будете смывать косметику с лица и увидите себя в зеркале, собственный взгляд покажется вам странным и незнакомым. Это не вы. Примерно час вас будут преследовать страхи, вы никому не будете доверять, а потом это чувство растает. В вашей стране ужас — это нечто такое, что принимается как доза лекарства, чтобы вы могли напомнить себе, что вы от этого не страдаете.
Для меня и девушек из моей деревни ужас — это болезнь, которой мы страдаем. Это не такая хворь, от которой вы можете излечиться, встав с большого красного стула в кинотеатре, который сразу сложится. Это было бы здорово. Если бы я могла это сделать, уж вы мне поверьте, я уже стояла бы в фойе. Я смеялась бы, болтая с парнем из киоска, заплатив однофунтовой британской монеткой за порцию попкорна с горячим маслом, и говорила бы: «Фу-у-у… Слава богу, все закончилось. Я такого жуткого фильма никогда не видела, так что в следующий раз пойду на комедию или на романтическое кино с поцелуями». Однако фильм остается у вас в памяти, и не так-то просто от него избавиться. Куда бы вы ни пошли, он все равно прокручивается у вас в сознании. И когда вы говорите, что я беженка, вы должны понять, что никакого убежища нет.
Читать дальше