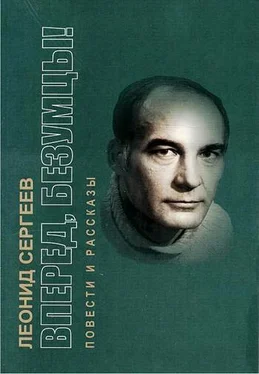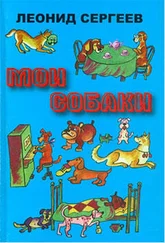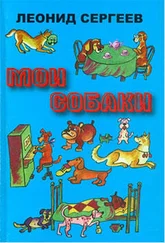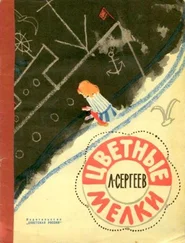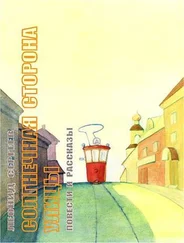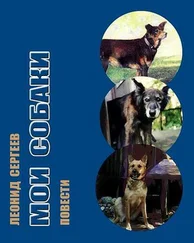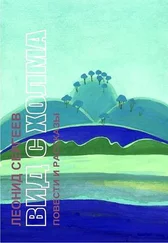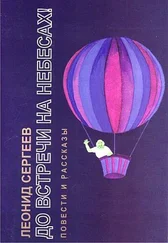— Прям не дождусь теплых дней, хочется походить в платье, — она отпила кофе. — Когда у меня плохое настроение, я надеваю лучшие вещи, пройду по улицам, все разглядывают, пристают… и у меня снова поднимается настроение.
Она назвалась Сильвой, произнесла фамилию, какую-то чрезмерно красивую, как павлиний хвост, — и пояснила, что ее отец крупный начальник, а мама «конечно, не работает. Зачем? У нас и так всего полно».
За окном продолжал лить дождь; стекла помутнели, и прохожие превратились в призраки из влаги. Мы пили кофе, и она без умолку тараторила:
— …До замужества меня прям замучили молодые люди: дарили цветы, звали в гости. А меня легко уговорить. Я такая дурочка, прям не знаю, — накаляя интерес к себе, она снова улыбнулась и с преувеличенной откровенностью добавила: — Выпью вина — и на все готова, уже в разобранном виде, — она положила ногу на ногу, оттянула юбку и замерла, точно восковая кукла.
Мне показалось — началось землетрясение, я боялся встретиться с ней взглядом.
— …Чтоб не делали предложений, я носила мамино кольцо. Все равно прохода не давали, — она снова заелозила — кукла из восковой превратилась в заводную. — А когда вышла замуж, оборвали телефон, все стали делать предложения…
Я таращился на ее колени, меня бросало то в жар, то в холод.
— Мужа я не люблю. Он-то без ума от меня. Его посылают в Париж. Говорит, без меня не поедет. А мне не хочется. Кстати, извините, мне надо позвонить — приглашали на дачу, но я откажусь.
Виляющей походкой она направилась к вестибюлю по середине зала. Сквозь стеклянную дверь я видел — в трубку она не говорила, но, вернувшись, без зазрения совести объявила, что отказалась от поездки и усмехнулась:
— Я люблю авантюры. Если хотите, пригласите меня к себе. Я ведь так просто возьму и поеду. А у вас соседей нет? Нам никто не будет мешать?
— Есть хозяйка, но она ко мне не заходит, — еле сдерживая волнение, с мужланским простодушием я взял ее за локоть.
— Ой! Не дотрагивайтесь до меня. Я такая чувствительная… Обычно я мужчинам говорю: «Вы мне нравитесь, но спать я с вами не буду». А потом они меня уговаривают… Ну хорошо, я сейчас позвоню еще в одно место, и потом мы что-нибудь придумаем.
Виляя бедрами, она снова вышла в вестибюль, и мне померещилось: вот сейчас выбежит за дверь, перелетит на другую сторону улицы и исчезнет — от нее всего можно было ожидать.
Она снова опустила монету и опять ни с кем не разговаривала. Потом стремительно подошла.
— К сожалению, должна вас покинуть. Меня ждут.
— Давайте встретимся попозже?
— Нет! Я не смогу. Я занята. И не уговаривайте меня.
Мы вышли в вестибюль, и она в третий раз набрала номер.
— Максим, где же ты ходишь? Который раз звоню. Прошу тебя, умоляю, подожди меня… ну пожалуйста! Я возьму такси…
Она выбежала из кафе не попрощавшись и побежала через улицу под проливным дождем. Бежала долго, придерживая шляпу, пока не исчезла за дождевой сеткой. А я стоял на месте, снедаемый ревностью и отчаянием, не в силах понять, для чего она корчила из себя роковую женщину.
Два раза звонил Чернышеву и он назначал мне встречи в пивбаре. В первую встречу коллекционер «левой» живописи и психиатр (он закончил институт и работал в больнице) разразился руганью, отчитал меня за то, что из армии не писал «как последний свинтус», что очутившись в Москве, первым делом не позвонил «как неблагодарный поросенок», что забросил живопись и таскаю «железки», «превратился в порядочную свинью».
— …Ты не для этого родился! Потом будешь жалеть, называть эти годы — годами упущенных возможностей! — Чернышев топал на меня и вновь рисовал мое «удачливое будущее».
При повторной встрече Чернышев олицетворял доброту:
— Сейчас в живописи образовалась пустующая ниша, — доверительно сообщил мне, — ты один из тех, кто должен ее заполнить. Во всю мощь. То есть, стать мощным живописцем. И вот еще что: за одной хорошей мыслью у меня обычно следует другая — тебе надо завести роман с какой-нибудь классной девчонкой (легко сказать «надо завести!» да еще с «классной»!). Без романа твоя жизнь носит бессмысленный характер. Думаю, ты и в этом деле продвинешься далеко.
Исаев и особенно Чернышев подстегнули мое честолюбие — я выполнил первую часть их заповеди: с получки купил грунтованный картон, кисти, краски и стал выкраивать время для живописи; писал этюды, натюрморты, но то и дело бился над элементарными вещами и часто заходил в тупик — мне явно не хватало учителя, только где его было взять? Со второй частью заповеди моих наставников дело обстояло сложнее.
Читать дальше