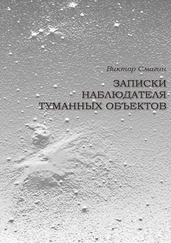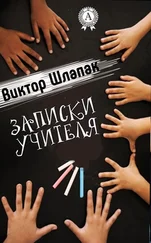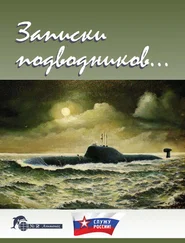— Вам к поезду? Спасаетесь от здешней метели? Хо-хо... А шофер, может, в эту минуту техминимум сдает... Техминимум!
У этого грузного, в собачьих унтах, тоже, должно быть, шофера, выходило: тюхмень... тюхмень.
Близко от хлопающих дверей крупной дрожью сотрясалась и поджимала то одну, то другую лапу желтая взъерошенная собачонка — в двери сунуться она не смела, хотя на что-то мертво надеялась. Я придерживал двери, говорил:
— Ну же, Шайтанка, дура! Иди! Пропадешь ведь.
Но собачонка только механически пятилась, когда к ней приближались, смотрела бессмысленно, и колотун ее бил страшный. А когда дождался-таки мистического автобуса, впрочем, полупустого, сел и, успокоившись, поехал на вокзал, то в работе двигателя, в его ровном морозном гуле слышал вот что: «Надо было тебе собаку эту, Шайтанку, непременно загнать в тепло. Непременно!» И еще слышал: «Собака ты!... Тюхмень».
А на железной дороге, в станционных зданиях шла своя жизнь. Построены они были в разгар освоения целины и поражали теперь тяжеловатой импозантностью, основательностью, которая, что греха таить, обманывала, заставляла искать то, чего не было и в помине. Например, ожидались за этими вокзальными полуколоннами, арочными окнами и всей классической физиономией просторные, светлые залы, а встречали входящего темноватые выгородки, висячие замки там и сям, стесненность. Встречали — многоречивые компании, сбивавшиеся в кучи на скамьях с изогнувшимися отчаянно спинками — темные, признаться, компании. Или они такими казались. Как вот эти.
— Замолчь! — поминутно вскрикивал клокочущий чем-то своим, тайным, мужчина. — Замолчишь, нет? А то долбану!
Их скамья помещалась между выгородкой и капитальной стеной, в этом тамбуре лепились они плотно друг к другу — сидели и на пятках, согбенно и странно, на сумках, мешках. Старообразная женщина-заморыш, сильно перегнувшись, сидела с краю скамьи, ее кто-то обнимал за плечи — с растянутой серой улыбкой; а к л о к о ч у щ и й вскрикивал, замахивался на нее. Что же она говорила? Слышно не было. Что-то вроде:
— Всех знаю, всех... Если только захочу, вы у меня...
Пили одеколон. Бегали за ним туда, где продавались промтовары, — посовывались в распахнутую в хлипкой стенке фанерную дверцу. Кто они были? Какая-то артель — все в ватных брюках, ватниках. Одни уезжали, другие, похоже, оставались. Ватные люди.
Снова взвилось «Замолчь!» того же мужика. Он назвал заморыша Дармовочкой... Пусть такой она и останется. Дармовочка, последняя! Она же — образ несущая, за который все хватаются. Исхватана, конечно, да, исхватана!
Все кругом были мне страшно знакомы, хотя я никого не знал. Я говорил себе: здесь твое прошлое — все твои маленькие вокзалы, твои попытки прожить жизнь свободную. И, в первую очередь, свободную от предопределенности, а значит, счастливую, поскольку именно так ты понимал счастье...
Прошлое счастье. Прошлое — вот этот пожилой пухлый Васильич, по всей видимости, путевой мастер.
— Васильич, — говорят ему, как когда-то. — Ну же, Васильич! Ты не обижайся, сейчас идем...
Почему-то они в шляпах — нелепые шляпчошки мятые. Мелкие кудерки. Выходят, сразу же возвращаются. Ловятся за уши, трут. Шляпы сдвигаются то на одно ухо, то на другое. Васильич полдня их уговаривает: надо идти на пути.
Путейское: выходили в самую глухую пору чистить стрелочные переводы. Продували сжатым воздухом, прометали метлами, где шлангами было не достать. Ее величество метла! Но что мне делать с тою метлой, которой я все еще прометаю свою жизнь?.. Автоматика в метель капризничала. На бесчисленных путях Товарной, там, где из метельной обманчивой мглы возникали призрачные огни и щучьи тела электричек... Жили в вагончиках там же на Товарной, набегали в иное полнолуние ш п а н я т а из больших красных домов, притиснувшихся к железной дороге, с одной целью: подраться с деревней... Деревня — это были мы! Хоть были мы, в общем-то, такими же городскими. Называли нас еще так: ПМС, путевая машинная станция. «Бей деревню!» — хриплый крик при полной луне мечется меж вагонов. «А-а, так вы пэмээсовских бить!..» Выскочил огромный латыш, работал у нас механиком, отодрал от чьей-то приставной лесенки перильца, и давай гвоздить... Везде найдется свой латыш! От него шпанята — кто уползал, кто под вагоны нырял. Так и носятся до сих пор в какой-то моей дали два крика: «пэмээсовцы» и «бей деревню!»
— Захочу, всех посажу, — мстительно твердила между тем Дармовочка, она отшатывалась от своих шабашников, маленькие глаза ее блуждали, отыскивая кого-то среди тех, кто был в зале; на смазанном всемогущей рукой личике ее так и было написано: «Всех посажу».
Читать дальше