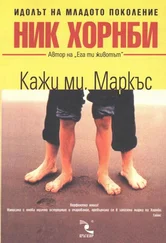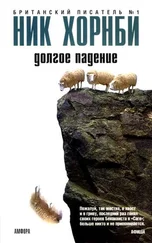— Гостей будет много? Больше семнадцати?
— В этот раз уж точно соберется не меньше. А в чем дело?
— Я никогда не хожу в места, где собираются больше семнадцати человек. Вот почему я бы не смог работать в супермаркете. Там ведь так много людей, понимаете меня?
Прикинув, я пришла к мнению, что вместе со штатом и посетителями число присутствующих в супермаркете в самом деле регулярно превышает семнадцать.
— Но раз вы приглашаете, — добавил он, как будто я его уже полчаса уговариваю, — то нельзя ли прийти к вам в гости на следующий день, когда все разойдутся?
— Боюсь, на следующий день вечеринки уже не будет.
— Вот как, — разочарованно протянул он. — Вы уверены?
— Мы попытаемся устроить так, чтобы пришло не больше шестнадцати. В другой раз.
— В самом деле?
— Попробую что-нибудь сделать для вас. Посмотрим, что у меня получится.
Впервые Брайен покинул поликлинику счастливым человеком. Я тоже была счастлива, пока не вспомнила, что это счастье — прямое следствие помешательства Дэвида и, вместо бойкота его планов, я занимаюсь, по сути, соглашательской политикой. Только что мне пришлось иметь дело с человеком из разряда тех, кто, по мнению Дэвида, нуждается в утешении. И вот, жизнь этого человека тут же озарилась внутренним светом. Мне не понравилось, что я опять впуталась в это дело.
Я забыла упомянуть о том, то прежний Дэвид ненавидел вечеринки. Точнее говоря, он ненавидел проводить вечеринки. Если уж быть совершенно точным, как конструктор «БМВ» в телерекламе, он ненавидел саму идею проведения вечеринок, поскольку за двадцать лет совместной жизни ни разу не зашел так далеко, чтобы провести хоть одну. Зачем, в самом деле, собирать дома кучу ненужного народа, который будет стряхивать пепел на ковер? Зачем ему не спать до трех ночи из-за того, что Ребекка или какая-то другая из моих подруг налижется так, что не сможет сама доковылять до дому? Все это, как вы понимаете, чисто риторические вопросы, над разрешением которых никто ломать голову не собирался. Я никогда не вступала в спор с доводами рассудка Дэвида: кому, в самом деле, нужен пепел на ковре? По тому, как были поставлены эти вопросы, становилось понятно, что он и в мыслях не допускал, будто я стану настаивать на том, что вечеринка может принести какую-то радость и приподнять настроение. Что она будет ЗАБАВНОЙ или что друзья, которые на нее соберутся, будут КЛАССНЫМИ. Такое все равно бы не сработало.
Теперь я мысленно перебирала все, что когда-то считалось лишним, ненужным, запретным, а теперь вдруг стало вполне в порядке вещей, и недоумевала. Что происходит? Когда-то Дэвид тратил кучу денег на лазерные диски, книги и еще на какое-то барахло, — даже толком не имея работы, он мог себе это позволить. Я же, напротив, пропадая на службе, постепенно дичала, лишенная культурных оазисов в виде театров, музыки и прочего. У меня не было времени даже на чтение книг. Мы обсуждали эту проблему. И каков же был результат? Дэвид стал прятать от меня свои покупки — засовывал новые диски в старые коробки, слушал их в мое отсутствие, затирал обложки книг, чтобы они не выделялись на полке. Но теперь он полностью утратил интерес к подобной конспирации. Он почти не выходил из дому, а газетные листы с обзорами и рецензиями лежали нетронутые. Если честно, я уже забыла, что мы последний раз покупали для домашнего хозяйства. Может, я, сама того не замечая, сделалась закоснелым фанатиком, перешла, помимо воли, в какую-то экстремистскую религию, которая усматривает в любых развлечениях разнузданность и легкомыслие?
И еще одно: Дэвид совершенно перестал шутить, как прежде. Раньше он, бывало, веселил детей в стиле телепередач шестидесятых, уморительными голосами озвучивая разговор фруктов («привет, мистер Банан», «добрый день, сударыня Клубника»). Он изображал «Спайс гелз» и занимался прочими непотребными вещами. Молли угодливо смеялась, Том же смотрел на него так, словно отец делал перед ним что-то неприличное. ГудНьюс, наверное, даже не догадывался о существовании местного клуба юмористов… впрочем, не будем от этом. Натужные попытки Дэвида отмочить какую-нибудь хохму сводили меня с ума. С ним, бывало, разговариваешь о чем-нибудь серьезном, а он строит мину, так что не сразу догадаешься, слушает он тебя или просто издевается, а потом вдруг что-то выскакивает из него точно змеиное жало, словно язык у Ганнибала Лектора, и не знаешь, рассмеяться тебе или же, что происходило чаще, выйти из комнаты, хлопнув напоследок дверью. Правда, в восьми случаях из ста что-то поражало меня в самое сердце, задевало мое чувство юмора, мой смехотворный орган, и, какой бы я ни была серьезной, сердитой и сбитой с толку, Дэвид достигал искомой реакции.
Читать дальше