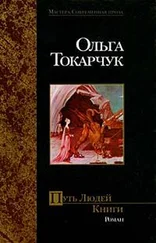Они преклонили колена друг подле друга и вполголоса начали молиться.
Прошлое в монастыре не многим разнится от будущего, немногое меняется во времени и в жизни людей, за исключением, пожалуй, цвета поры года, а потому жизнь здесь протекает в бесконечном настоящем. Она укладывается в минуту, которая за стенами обители была бы не более, чем мгновением, но здесь та минута не начинается нигде и нигде не кончается. И если б не мудрость человеческого тела, которое никогда не упускает из виду конечной цели, жизнь в монастыре могла бы стать бессмертной.
Пасхалиса со всех сторон окружал сонный, подробнейший, расписанный до жестов, до секунды, упорядоченный ритуал. Даже собаки, за которыми он наблюдал из окон, не нарушали размеренной монастырской жизни. Они появлялись в полдень возле помойки, куда выкидывали объедки. Жадно набрасывались на еду, потом исчезали, затем опять возвращались и возбужденно разгребали очередную кучу отходов. Вечером решали вопросы своей иерархии — цапались, скулили или же, наоборот, устраивали какие-то собачьи игрища. Зимой они жались к овинам и скотным дворам. Весной, когда делили сук между собой, слышался их завистливый визг. Осенью, сбиваясь в своры, охотились на мелких грызунов.
Пасхалис, как и все, вставал с рассветом, омывал лицо водой и облачался в платье. И тут же включался в плавный ритм молитвы и работы, в шелестящую перетасовку темных монашеских фигур, анфилад и галерей.
Брат Целестин был ему отцом, любовником и другом. Он многому его научил и предоставил редкую в монастыре привилегию — ежемесячные поездки со свежим мясом в женский монастырь, принадлежавший тому же монашескому ордену. И было это для Пасхалиса большим подарком: ему открывались столь великие просторы, столь могучие, что после них монастырские галереи и лабиринты казались ничтожными и убогими. Они отправлялись в путь до рассвета, чтобы около полудня подъехать к калитке, ведущей к монастырской кухне. Телега медленно тащилась под гору, а чуть позже, когда достигала перевала, приостанавливались даже волы, заглядевшись на невообразимо далекий горизонт, отделяющий от бескрайнего неба зеленую долину Глаца и громадные, похожие на расставленные столы горы. Неведомо почему, Пасхалисом овладевало тогда волнение. По дороге им попадалось только одно небольшое селение, около десятка глинобитных хат, и это была единственная минута, когда он на мгновение испытывал тоску по дому.
Как только телега останавливалась у калитки, немедля раздавался предупредительный звон колокольчика и сразу же умолкал. Повозка въезжала во двор, и братья принимались выгружать свиные окорока. Пасхалис озирался нетерпеливо, ища взглядом какую-нибудь женскую фигуру. Чаще всего он видел одних старых монахинь с морщинистыми лицами и беззубыми ртами. Монахини напоминали ему мать. Затем братьев приглашали в кухню угоститься чем Бог послал. Кухня была чистой и уютной, в воздухе витал аромат меда и сыров. У сестер была пасека, а еще они держали коров. В обмен на мясо братья получали крынки с медом и короба сыров, завернутых в чистые тряпки. Пасхалис догадывался, что так должно пахнуть женское тело: сыр и мед — смесь приятная и тошнотворная.
Иногда Пасхалису удавалось увидеть нечто большее. Как-то раз он видел их с телеги через ограду, за которой монахини возделывали свои огороды. Они пололи овощные грядки и вдруг стали кидать друг в дружку вырванные сорняки. Девушки давились писклявым смехом, прижимая ко рту широкие рукава монастырского платья. Это зрелище потрясло его. Они были, как дети. Одна из них, слегка подобрав юбку, прыгала через грядки, увертываясь от удара пучком сорняков. Головной убор развевался, будто бы у послушницы на затылке вдруг чудом выросли крылья. Пасхалис стал подражать этим движениям — мягким, всегда плавным, прекрасным.
Неохотно возвращался он после такого в монастырь, даже к брату Целестину. Все там было какое-то угловатое, нескладное и грубое. Тот же Целестин. Его тело могло, правда, доставлять ему удовольствие, ибо этой наукой Пасхалис уже овладел, но не было в теле Целестина того, о чем Пасхалис мечтал. Лежа рядом с ним в постели, он стыдливо представлял себе, что Целестин — женщина. Его рука скользила по спине любовника, пока пальцы не натыкались на волосатые, шероховатые ягодицы. Юноша разочарованно отдергивал руку. Потом, однако, пытался вообразить, что это он — женщина, и тогда Целестин мог бы остаться тем, кем он был. От одной мысли, что у него тело женщины, с тем таинственным отверстием между ног, он ощущал приятный трепет, и в конце концов эта мысль превратилась в настоящую навязчивую идею. Как что-то подобное может выглядеть, размышлял он. Такая ли это дырочка, как в ухе, или как ноздря, только большая, круглая и светлая, или, может, как трещина, извечно кровоточащая рана, как порез на коже, который никогда не заживает. Пасхалис бы все отдал, чтобы только познать эту греховодную тайну, но не так, как познаются вещи извне, а самому стать тайной познания, испытать это на себе.
Читать дальше