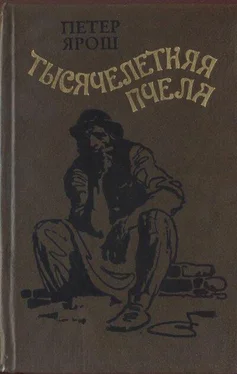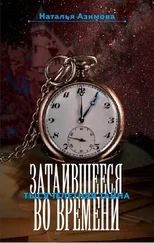Не угнаться за ним было даже Бенедикту Вилишу, прозванному Самоубивцем. У этого каменщика была препротивная привычка — после каждой третьей фразы повторять: «Самоубьюсь!» Впервые у него это вырвалось три года назад, когда работал на Штрбском Плёсе. Влюбился он там в пухленькую кухарку, увивался вокруг нее, любезничал, а когда робко открылся ей в любви, она со смехом отвергла его. «Самоубьюсь! — вскричал он тогда. — Все плёсо выпью!» «Хотела бы я на это взглянуть, жалкий бахвал!» — презрела его кругленькая стряпуха. Рассказывали, что отвергнутый Бенедикт Вилипт, гонимый злобой и тоской, немедля залег у Штрбского Плёса. Вздохнул и стал пить. А чуть поодаль от него куражилась неугомонная кухарка. Но чем дольше лежал Бенедикт, тем явственней затихал ее смех. Прошло не так уж и много времени, утверждают злопыхатели и зубоскалы, и плёсо было в животе у Бенедикта. Кухарка, ахнув, свалилась без чувств. Когда ее любезный поднялся на ноги, живот у него так вздулся, что касался Татранских хребтов. Он стоял и ждал, что вот-вот испустит дух, ан смертушка не приходила. Очнулась тут и кухарка, кинулась к Бенедикту и давай в восторге целовать его, обнимать. Но теперь Бенедикт уже знать ее не хотел — оттолкнул прочь. Ходил взад-вперед, вздыхал и упрямо ждал смерти. А коль смерть не шла, он взял да и сдался — выпустил все в штаны. Плёсо вылилось, но не в яму, где покоилось до сейпоры, а в долину, что клонилась к Важцу. Важечане в тот памятный день сочинили легенду о новом вселенском потопе. Прошло две зимы, пока плёсо вновь наполнилось водой до самого края. Бенедикт покинул вероломную, двоедушную стряпуху, ушел навсегда со Штрбского Плёса, и лишь как память о дурных временах осталась у него это спотыкливое: «Самоуб-б-быось!» Однако с той поры Бенедикт Вилиш уже не помышлял о том, чтоб убить себя. Он понаторел в ремесле и ухаживании за женщинами, и выгодное сочетание этих двух увлечений вполне его устраивало.
Третий в артели был Матей Шванда-Левша — парень необычайно изобретательный и сильный. Долго мог он терпеть всякие обиды и колкости, но уж коли вскипит — спуску никому не дает. Сказывали: в отместку за какие-то слушки, не то мелкие передряги, похитил он у бывшего старосты Ондрея Надера передние колеса с телеги и отнес их на самую макушку Кралёвой. Тащил их на спине, чтоб следов не осталось, да еще крпцы [16] Словацкая национальная обувь тина чувяков.
надел задом наперед. Был он левша — и левая рука у него была необычайно сильной и меткой. Не было кочерги, которую б он не смог согнуть, рукоятки, которую б не сломал. В ушко иглы резким броском продевал нить с двух шагов, если перед тем на колене туго-натуго скручивал ее кончик. Левша бросил пить, когда однажды подрался с отцом. «От палинки я буйный!» — говаривал он, и правда — с того дня трудно было влить в него даже малую толику спиртного. Незабываемы и слова, которые он, верно, повторял за кем-то другим: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!» Он горазд был смеяться, и пока смеялся, все было лучше некуда, а он глядел таким добряком — хоть гвозди в колено вколачивай. Работалось с ним легко и приятно. И даже силища его не внушала никому страха.
А вот словоохотливый Мельхиор Вицен, по прозвищу Мудрец, был человек вздорный, злобный, но и к нему можно было привыкнуть. Он непрестанно над чем-то раздумывал, вслух решал мировые проблемы, обсуждал политические события, едко высмеивал поступки и суждения товарищей и больше всего на свете любил читать. А когда вел кладку, вечно мудрствовал о том, как бы изобрести механического каменщика по принципу паровой машины. Долго носился с мыслью, что и города недурно бы строить на рельсах, чтобы передвигать их с места на место, из края в край. Лишь по причине занятости Мудрецу не удалось соорудить косу на паровой тяге, хотя чего только он не ожидал от нее. Если бы надлежащим образом увеличить такую косу, то можно было бы выкашивать не токмо траву, но и целые леса, а под землей добывать уголь и руду. Артель любила его, несмотря на сварливость, а особенно оценила с тех пор, как он объяснил причины затмения луны и солнца. Тогда-то и засомневались в его прозвище — стали подумывать о том, а не назвать ли Мудреца — Профессором. Но Матей Шванда-Левша деликатно растолковал товарищам, что «профессор» ничуть не лучше «мудреца», — и оттого все осталось по-прежнему.
Да и Юрай Гребен, видать, до последнего вздоха не избавится от прозвища Рыба, хотя на рыбу он ничуточки не похож. Просто всегда молчал, как рыба, и процесс говорения был для него сущей мукой. Однако слушать любил — кивал и улыбался, хотя сам, бывало, и словечка не вымолвит. Даже когда оно кстати. Чаще всего махнет рукой, отвернется — и вся недолга. Многие считали его немым, пока не услыхали, как он поет. Говорить он то ли не умел, то ли не хотел, а вот пел — заслушаешься! Бывало, раскроет рот да затянет — так от этакой красоты будто к земле пристываешь и долго сдвинуться с места не можешь. Песен Рыба знал несметное множество и каждую новую запоминал с первого раза. Как видите, нашему Юраю Гребену куда более пристала бы кличка Певец, ан нет, звали его Рыба. Но это ничуть не задевало его — по крайней мере он никогда на этот счет не высказывался.
Читать дальше