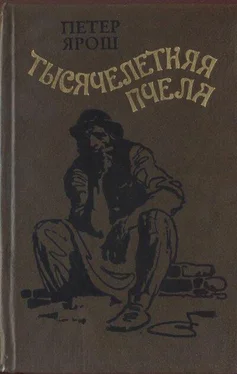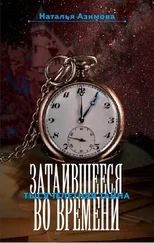— Ну ладно! — уступила наконец Ганка и попыталась улыбнуться. А потом опять разрюмилась на груди у Валента.
Вот, собственно, и все. Валент до конца каникул учил Гермину говорить о любви по-немецки, а Ганка каждый вечер поджидала его в загуменье, словно всякий раз хотела поскорей изгнать из его мыслей Герминин образ. Она обнимала его, льнула к нему, словно хотела вытеснить или отогнать от него любое воспоминание о Гермине, стереть любой след, оставшийся от нее, — запах, дыхание, пушинку, заблудшую веснушку… Она отдавалась Валенту каждый день на затерянной лужайке промеж гумен, отдавалась ему со страстью и негой, вся без остатка, словно хотела вобрать его в себя, завладеть им навеки. Валент только теперь по-настоящему влюбился. Пьянящая сладость любви так его охмеляла, что в конце каникул ему тяжко было и думать об отъезде в кежмарскую гимназию… Но время подвигалось вперед. Время стирает поступки, иногда побуждает к ним. Получив от Гадерпана тридцать гульденов, Валент простился со всеми и отбыл учиться. Он не хотел, чтобы его провожали, и поступил мудро. Уже за околицей у него от печали так сжалось сердце, что выступили слезы. Устыдившись, он торопливо утер их. Вернись он сейчас, то остался бы навсегда. Но он поборол в себе зовущие и приманчивые путы родины, повернулся и пошел. Именно в эту минуту отчий дом на-половину потерял его…
Осень дозрела. После жатвы выкопали крестьяне картошку, и мужики снова стали живо подумывать о своих ремеслах. Девушки враз потеряли свою сговорчивость, сделались строги, добропорядочны, теперь и не дотронься до них: им захотелось замуж. То было знаком и для многих парней — нечего, мол, больше отвиливать, пора исполнять мужской долг — жениться!
Само, оставшись наедине с отцом-матерью, заговорил о свадьбе.
— Добро, — согласился отец, — но на свадьбу заработай сам. Охотно подсоблю тебе мясом, картошкой, салом, колбасой и мукой. Остальное бери на себя.

Хватит дома баклуши бить, пора в путь-дорожку снаряжаться — сказали на исходе сентября несколько гибовских каменщиков и взялись готовить свой инструмент. То была слаженная артель ровесников, и предводил ею повидавший свет, лет на десять старше товарищей, мастер-каменщик Петер Жуфанко. Меж собой они прозывали его Змеем. Пока дорос до мастера, он обошел в подмастерьях всю Австро-Венгрню, Швейцарию, Германию, раза два-три вел кладку и в России. Если кто представляет себе каменщика приземистым, коренастым молодцом, у которого от кельмы, шпателя, отвеса, молотка и вечного подкидывания кирпичей несоразмерно утолстились мышцы или который от частого прищура то одного, то другого глаза окосел, так в случае с Жуфанко он сильно бы ошибся. Змей был прямой противоположностью: высокий, стройный, даже сухощавый. Лицо — и главное подбородок — словно высечено, щеки в меру запавшие. Руки чересчур велики, а ладони до того широкие, что прыгни он ненароком с лесов и взмахни ими как крыльями, то минуту-другую, пожалуй, парил бы над землей. При ходьбе он покачивался, изгибаясь всем телом, словно ввинчивался в воздух. Взгляд сосредоточенный, пронзительный — посмотрит, аж мороз по коже подирает. Змей, одним словом. Но нравом был приятный, веселый, хотя и не бог весть какой покладистый. Не дурак был выпить, и уж тогда — как о нем язвительно поговаривали — имел склонность вкручиваться в земные трещины, кои во хмелю упорно выискивал. Ходила о нем молва — столь же язвительная, — будто в молодости он и его бабка, у которой были такие же склонности и на которую он явно смахивал, пробуравили собственными телами подземные ходы между Гибами и Выходной. Наловили будто ужей и гадюк и их выделанной кожей ходы эти выстилали. А потом скользили по ним меж двумя селами. Петер Жуфаико однажды купил у труппы бродячих циркачей молодого тюленя и за два месяца выучил его говорить. Тюлень отвечал на вопросы детской считалки. «Как тебя зовут?» — спрашивал Жуфанко. «Копытокапут!» — самозабвенно отвечал тот. «А кличка твоя?» — продолжал Жуфанко. «Мишко-гоп-ля!» — заключал тюлень, облизываясь длинным языком. Однажды тюлень пропал, и злопыхатели утверждали, что Змей заманил его в свои подземные ходы и ездит там на нем, как на сивке. Когда же Змей поддавал лишку — а случалось это нередко, — он грозился, что со злости влезет в какую-нибудь трещину, пропасть, скважину, упрется в ее стены плечами, локтями и будет давить так истово и долго, пока наша матушка-земля не треснет и совсем не располовинится. Хорошо еще, что он ловок был и в работе. Это было его главное достоинство. На кладке мало кто мог с ним сравниться.
Читать дальше