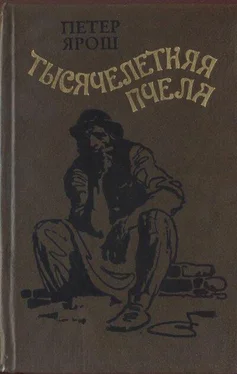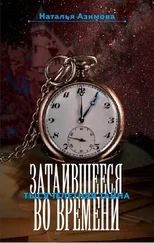— И наречен будет Марек! — провозгласил он.
И был он Марек. И были крестины. На крестинах был и Ян Аноста с женой, счастливый и веселый, потому что нашлась причина вытащить из гардероба черный, ловко сшитый костюм шерстяной ткани, который он так любил надевать. От избытка счастья Аноста упился в первый же час.
— Социалист народился! — выкрикивал он. — Да здравствует социалист!
— Уж лучше трубочист, наверняка проживет дольше.
Невесть откуда взявшийся фотограф сделал памятные снимки, а потом тоже нализался. Все гости, позабывшись, набрались через край. К полуночи упились до зеленого змия — зелье просто из ушей сочилось. Вылакали даже то, что притащили в подарок, и все казалось мало. Один Само пил неохотно… Словно мыльную воду тянул. И была неповторимая минута, когда он наклонился с женой над новорожденным и тихо прошептал: «Смерть можно одолеть только жизнью!»
Через неделю родила Кристина. Сбежались все замужние и детные подружки — помогли запеленать малого Ивана. Матильда Митронова в отчаянии опрокинула керосиновую лампу — спалила бы дом и сама бы сгорела в нем, кабы не мать. Та погасила крепнувший пожар, руки сожгла, а дочь уберегла. Юло Митрон усыновил детище, устроил ему крестины и, крепко сжав кулаки и сощурив глаза, высказал над отпрыском свое пожелание: «Пусть падет на загуменье метеорит, величиной с колокол, и я выкую тебе из него бессмертное сердце!»
Ганка рожала трудно и долго. Впадала в беспамятство и снова приходила в себя. Надрывалась от боли. О грядку кровати искровянила пальцы. Три повитухи спасали ее, но ребенок родился мертвый. Роженица потеряла много крови, промучилась день, утопая в белых, высоко взбитых перинах, и умерла.
Месяц спустя пришел черед Гермины. Валент Пиханда за день до родов убежал в горы, оставив жену на попечении матери и акушера. Это были самые тяжелые дни в его жизни. Он горевал по сыну, жалел Ганку и с тревогой думал о жене. Когда, вконец измученный, через два дня воротился, ему сообщили, что у него родился здоровый сын Мариан. Он словно уцепился за что-то над пропастью. Ужас падения отпустил его. Было невмочь кричать, но и молчать он не мог. Он бросился к сыну и, увидев его, застыл от изумления, словно не верил собственным глазам. Лишь исподволь на губах его заиграла улыбка.
Он взглянул на тещу — та сверлила его глазами. Только сейчас он осознал, насколько она ему отвратительна, — и еле сдержался, чтобы не сплюнуть… А теща, повеселев, вдруг что-то замурлыкала, потянулась к внуку. Валент схватил ее за руку, сжал до боли. Она вскрикнула, но подчинилась. К колыбели подскочил захмелевший Гадерпан, увешанный подарками для внука и дочери. Он встал, широко расставив ноги, и бросил на перину пачку банкнот.
«Вот тебе в подарок, — взревел он, и внук расплакался. — Хочешь стать человеком — уже родись богатым!»
А чуть позже Марианова бабушка — Ружена Пихандова промолвила с тяжким вздохом: «Сколько мальчиков рождается — к войне это!»
Но до войны было еще далеко.
Время валило вперед. Оно кувыркалось, перекатывалось то быстрей, то медленней, но не останавливалось. Само Пиханде казалось, что оно втягивает, всасывает его в свою бездонную пасть и она навсегда за ним захлопывается. И никогда ему не вырваться из нее, не убежать от времени, не перегнать его. Он входил в него неотъемлемой частью, был его послушной молекулой. Менялись времена — менялся и он. После рождения сына Марека он ненадолго успокоился, смирился с тем, что случилось. Даже Мария не заговаривала о покойном Янко. То ли забылась в хлопотах о новорожденном, то ли сознательно не хотела вспоминать то, что причиняло ей боль. Внешне все оставалось по-прежнему. Жарким летом по обыкновению выгонял Само мух из кухни или просто убивал их. Мушиными трупиками подчас бывали усеяны пол и стены. Иной раз он с увлечением ловил мух и скармливал их ногастым, как он считал — домашним, паукам. Дети помогали ему, прыгая вокруг, и ужасно радовались, когда паук сильными челюстями душил отчаянно мечущуюся муху. Из этих наитончайших паутин не исходило ни звука. Все выглядело естественно, обыденно. Все казалось таким, каким и должно быть. И это убийство в нужном месте и в нужное время сохраняло жизнь, пусть всего-навсего паучью. «Эх, — нередко вздыхал Само, — был бы и у меня такой кормилец, как у этого паука! Такой, что сбрасывал бы мне на стол печеных баранов, голубей или поджаренных форелей. А еще бы лучше, кабы в Гибице или Ваге вместо воды текла говяжья похлебка с лапшой. В лужах после дождя благоухал бы укропный соус, холмы были бы из печеной и вареной картошки, а один из них — большой глыбой сыра. И по крайней мере из половины родников било бы коровье молоко». К сожалению, ничего похожего не произошло, хотя многое изменилось. Менялись и заботы, но и в новом обличье они оставались заботами. Само обихаживал пчел, но особого почтения к пчелиной матке уже не испытывал. Иногда он подремывал в пчельнике, но теперь его не одолевали видения. Впрочем, ему вообще перестало что-либо сниться. Вечером он засыпал внезапно, словно день погружал его в густое масло, а утром просыпался как ужаленный, почти с криком. Подчас гудело в голове, резало глаза, но он не замечал этого. Самоотверженно, преодолевая в себе сомнения, он упорно, неистово, даже злобно переливал в кадушки мед, собирал урожай в садах и на поле, косил, свозил, молотил и снова пахал и сеял… Когда ж по весне бурей смыло с поля навоз и смело засеянный хлеб, он принял это спокойно. Натаскал навозу и снова засеял. Да и ко всему происходящему в мире относился он философски, попусту не тревожился. В начале января прибежали к нему Аноста и Толький, но ничего не добились. Вперебой рассказали о «Кровавом воскресенье» в Петербурге, когда царские войска ранили две тысячи и убили свыше тысячи человек, направлявшихся к царю с петицией об улучшении условий жизни в России. Он выслушал их, но остался холоден.
Читать дальше