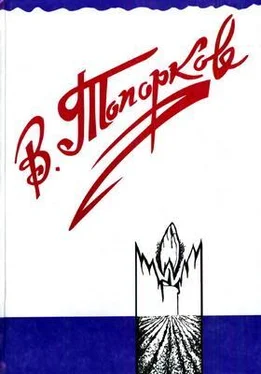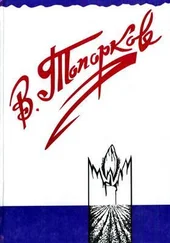– А, это тот, – Белов оживлённо спросил, – который говорил, что главное в земледелии – пахать? Читал, читал. Только скажу прямо, устарел твой учитель! Теперь что ни год, то новые указания – то пахать, то лущить, то плоскорезами обрабатывать… Вон вся Полтавская область на плоскорезную систему перешла и, представь, урожай богатый.
Белов опять пронзительно посмотрел на Евгения Ивановича, впился взглядом, словно изучал своего преемника. Да так оно и было, наверное, – кому же не интересно узнать человека, которому, как эстафету, передаёшь любимое, выстраданное, потом и кровью омытое дело. А у Николая Спиридоновича в этом колхозе лучшая часть жизни прошла, отдана ему без остатка.
Бобров хотел сказать об этом, поблагодарить старого агронома, но тот точно угадал ход его мыслей и засмеялся, быстро поднялся из-за стола, очки в карман уложил, нарукавники стащил и вздохнул с облегчением:
– Ну, Женя, акт сдачи-приёмки нам писать не надо, приступай, как говорят, с Богом, а я пойду по-стариковски отдыхать. Удочку куплю длинную, японскую – дорогая, говорят, вещь, целую месячную пенсию мою стоит… Да чёрт с ней, с пенсией, как говорят, не на том победнели, что сладко ели…
Белов пошёл к вешалке, и, наверное, даже не пожал бы руку своему преемнику, но Евгений Иванович попросил:
– Может быть, в семенные склады вместе сходим, Николай Спиридонович?
Боброву не хотелось оставаться сейчас в кабинете, где ещё не выветрился дух другого человека, а эта торопливость Белова показалась попыткой прикрыть грусть. Сегодня на заседании правления, где провожали его на пенсию, было сказано много тёплых слов, но Белов сидел хмурый, как октябрьский день, поглядывал на колхозников с неприкрытой тоской, и в уголках глаз искрилась влага.
Белов грустно усмехнулся:
– Ну что ж, можно и прогуляться. Да, чуть не забыл – книгу истории полей я тебе позже передам. Посижу дома, записи сделаю, брехню всякую намалюю…
– Так уж и брехню?
– А как ты хотел? Я ведь не случайно сегодня тебе про указания разные говорил. Давят в наше время на агронома таким прессом – не разогнёшься.
– Непонятно, Николай Спиридонович!
– Опять непонятно? Счастливый ты человек, Женя! Значит, на своей шкуре не испытывал ещё руководящего гнёта. Я почему не могу тебе историю полей передать? Не от неряшливости. Просто в последние годы туда всё нельзя было записывать. Вроде себе приговор бы написал, как судьи говорят, окончательный и обжалованию не подлежащий.
– Почему? – удивился Бобров.
– Потому, что чехарда идёт – не приведи господь. Как в карты на земле играем. Вот скажи, ты сколько лет агрономом работаешь?
– Двенадцать.
– Так вот за свои двенадцать ты себя свободным чувствовал? Развернулся?
– Да на песках, где я раньше работал, не шибко развернёшься.
– Всё равно – счастливый человек, коль так говоришь. – Озяб Иванович нахлобучил рыжую лисью шапку на голову, надел полушубок и предложил: – Ну, пошли, дорогой договорим…
Мартовский день набрал разгон, яркое, искрящееся, по-весеннему радостное солнце зависло над дальним лесом, съедая пористый снег, и уже робкие ручейки показались на санной дороге.
На сельской улице вовсю горланили петухи, точно приветствовали тепло. Озяб Иванович подошёл к коновязи, отвязал осёдланную лошадь, ударил по крупу ладонью:
– Ну, Воронок, дуй на конюшню!
И вороной мерин неторопливо пошёл за ними, фыркая, позванивая удилами. Об этой лошади, вспомнил Евгений Иванович, в области ходили легенды. За все годы, пока работал агрономом Белов, не было у него никакого транспорта, кроме верховой лошади. Последние пятнадцать – вот этот Воронок. И, видимо, так может сдружиться человек с лошадью, что один другого дополняет. Воронок мог сутками ждать Белова, пока тот парился на каких-нибудь совещаниях, только тихонько ржал на коновязи у райкома или райисполкома, напоминая районным «вождям», что пора кончать заседания, а Воронку с его хозяином надо в поле, на простор.
Много лет назад, когда Белов ещё позволял себе выпить водки с друзьями-агрономами, Воронок вёз хозяина к стогу сена, где тот мог немного вздремнуть, и терпеливо ждал, пока проснётся его седок. В общем, была это какая-то необъяснимая дружба, напоминающая человеческую, молчаливая и понятная им двоим. Вот и сейчас идёт коняга сзади, пофыркивает ободряюще, точно доволен, что рядом хозяин. Даже Евгению Ивановичу грустно стало.
Наверное, и Николай Спиридонович думал о лошади, о грустном расставании с ней, и, остановившись, вдруг предложил:
Читать дальше