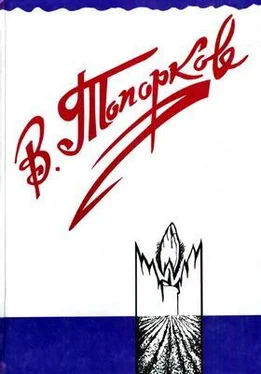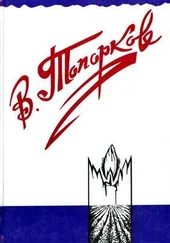На память пришёл тракторист Алёшка Елизаров, весельчак и балагур, весёлый балалаечник. Перед самой войной женил он сына Гришку. Свадьба была весёлая, забавная, Алёшка кричал, призывал гостей гулеванить по-настоящему, на вино не скупился и скоро сам набрался, принялся играть на балалайке, на которой мог он виртуозно исполнять любые танцы и припевки. Был Алёшка похож на циркового клоуна – нос в лепёшку, глаза навыкате, рубаха из красного атласа. И когда как-то спел забористую частушку:
Пашаницу – за границу,
Яйца – в коперацию,
Большой хрен – на заготовку,
Дуньку – в облигацию.
– то люди только посмеялись, а больше всех его жена Дуся, кроткая, смиренная баба. Но через два дня приехали к их дому два ражих молодца, Алёшку увезли. Словно в омут канул человек, был – и не стало. Вот такие дела!
Может быть, вовремя вспомнил об этом Андрей и спросил у Илюхи рассудительно:
– А что это нам даст?
– Ну… сам понимаешь… – начал заикаться Илюха. – Может, отстоим школу? Разве… мы-ы не фронтовики с тобой?
– Охолонь трошки, Илюша. Ничего мы с тобой не сделаем, только себе навредим. У немца всего-то танк, а у этих – бу-ма-га! Ре-ше-ние!
Подошедший Сергей Яковлевич, узнав в чём дело, тоже поддержал Андрея.
– Плетью обуха не перешибёшь, – сказал он рассудительно.
Илюха дёрнулся, лицо сделалось мёртвенно-бледным, сказал со злобою:
– Ну, тогда я уеду из Парамзина. Не котята мои дети.
– А куда уедешь, Илюша? – засмеялся Сергей Яковлевич. – От судьбы не убежишь.
– У меня кум в совхозе «Кубань» работает, вот к нему и подамся. Всё-таки не за палочки пашет, а настоящий хлеб получает. Давно меня зовёт, а я всё за свои углы держался.
Они разошлись по своим загонкам, и Андрея охватила тоска. А ведь и в самом деле, развалится Парамзино. Вон уже две семьи – Кольки Ермохина и хромого Боровкова, бывшего дезертира, недавно на Сахалин завербовались, сейчас ждут команду на отправку. Недавно Боровков ходил пьяный, расхристанный по деревне, кричал каждому встречному-поперечному:
– Наглядывайтесь – уезжаю!
Рыжие волосы его поредели на темени, свалялись в причудливый клок, и голос стал ломким, каким-то детским. Вроде и небольшая потеря, а всё-таки исчезнут ещё две семьи, и будут смотреть на мир пустыми глазницами их осиротевшие дома.
Рожь выдалась в этом году низкостебельная, ломкая, а колосок щуплый. И от этого тоже обливалось сердце кровью. Как будут жить люди в предстоящую зиму? Может быть, и ему податься из Парамзина, свет же клином не сошёлся? А как же память предков, родные могилы, тёплый простор, от которого мягче становится на душе? Разве затем на этой земле жило несколько поколений Глуховых, привыкли к каждому холмику, к каждой былинке в поле, к каждому дереву на улице, чтобы выбросить это сейчас из сердца, как ненужную ветошку?
Ольга, узнав о школе, вздохнула горестно. И снова вспомнила о Евдокии Павловне. В ней словно ожил её высокий волевой голос, зазвучал из небытия призывно и отчётливо. Правду говорят, что хорошие люди, как яркие звёзды – они исчезают, а их свет струится и струится на землю, греет и наполняет решимостью. Может быть, написать об этом произволе районных властей в Москву? Неужели и там не поймут?
Но желание это исчезло быстро, когда через три дня появился в колхозе Дмитрий Ермолаевич Сундеев. С подписной кампании на заём не был он в Парамзине, а тут, как только застучала на току молотилка, явился. И первым долгом собрал собрание.
Он долго разъяснял, как он выразился, текущий момент, говорил о патриотическом письме колхозников и всех работников области дорогому товарищу Сталину, в котором они решили досрочно справиться с заданием по продаже хлеба, а в конце сказал:
– Думаю, и ваши колхозники в долгу не останутся. Как, Степан Кузьмич?
– Да бедный у нас урожай, – крякнул Бабкин. Но Сундеев цепко уставился на него, и у того, видать, возник гнетущий озноб внутри, он поднял голову, посмотрел на потолок, вроде размышляя. – Но мы твёрдо намерены, товарищ Сундеев. Так и передайте районному руководству, это самое наше твёрдое слово. Подсчитав свои возможности.
– Да чего мы считали? А колхозникам как же? – спросил Сергей Яковлевич.
– Ты что, товарищ Зуев, забыл, что существует первая заповедь. Сначала надо о Родине думать, а потом уж о себе.
– Думается плохо, – усмехнулся Сергей Яковлевич. – С голодухи много не надумаешь, одна жратва в башке сидит.
Разозлился Сундеев не на шутку, забубнил:
Читать дальше