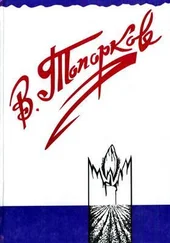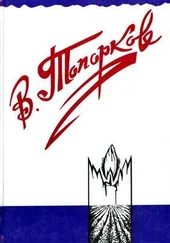Потом Нина, стыдясь за свой бестактный вопрос, сказала тихо:
– Простите меня, Михаил Петрович. Знала бы – не спросила. По себе сужу – такие беды опустошают.
Она что-то ещё пробормотала – Михаил Петрович не понял что – сейчас его мозг снова выхватил из закоулков памяти Надежду. Но хватило сил глянуть на Нину, и она сказала виноватым тоном:
– Вы заходите ко мне, Михаил Петрович, ладно? Я здесь работаю, врачом-лаборантом. Мой кабинет на третьем этаже, четырнадцатая комната.
И пошла устало, медленно, будто перед этим отмахала вёрст сто, а сейчас никак не разомнёт затёкшие ноги. Михаил Петрович глянул на журналиста, предложил:
– Может быть, ещё погуляем?
Ему вдруг захотелось сейчас двигаться, преодолевая самого себя, идти и идти, взять себя в руки, иначе снова защемит в груди, нудно отзовётся в боку. Альберт Александрович поднялся, с натугой распрямился во весь богатырский рост, усмехнулся.
– А вы счастливый человек, Михаил Петрович! Вон какие у вас знакомые женщины.
Пришлось рассказать ему о своей неожиданной встрече с Ниной тогда, больше полутора десятков лет назад, и в больших, рассудительных глазах мелькнула весёлая искорка:
– А вы ещё и танцор великий, – сказал с ухмылкой Альберт Александрович, – никогда бы не подумал.
– Голь на выдумки мудра, – отшутился, может быть, и не совсем удачно, Коробейников, и сосед надолго замолк, видимо, погрузился в собственные думы. Они ходили ещё минут двадцать, пока неожиданно из облачка не закапал дождь, оставляя на асфальте мокрые пятна.
– Э-э, брат, – усмехнулся Альберт Александрович, – не хватало нам, как школьникам, насморк схватить.
И он резво юркнул в подъезд, а Михаил Петрович постоял несколько минут под козырьком дверей и дождавшись, когда дождь смолкнет, снова пошёл по дорожке. Почему-то ему сейчас страшно хотелось двигаться, жить: ему казалось, что не сделай он этого – наступит смерть, удушье подступит к горлу, и замрёт недопетая песня. Может быть, на него дождь так подействовал, или встреча с Ниной?..
Вспоминая о Нине, он почувствовал, что та скорбь, тот прощальный, какой-то капитулянский настрой в душе его проходит, и ему словно улыбалось своей голубизной небо, сейчас прорезавшееся после свалившейся на восток тучки. Он уже не смотрел на мир тяжёлым спёкшимся взглядом, а наоборот, любовался зеленью омытой дождём травы, немногословным рокотом сосен, голубой простынной далью.
Он вернулся в палату посветлевший, будто побывал в поле, где сейчас наверняка звенят где-то в сизой выси песни жаворонка, незамысловатые такие, а трогающие до слёз, и благоухают травы, напоённые влагой да парят ширококрылые орлы. Журналист, завидев Михаила Петровича, хлопнул в ладоши, дружелюбно забасил:
– А вы, оказывается, большой хитрец, Михаил Петрович! Такую женщину знаете и молчите!
– Не знал, что она здесь работает. Да и виделись мы всего один раз в жизни.
– А вы Ваньку не валяете, а? По взгляду вижу – обманываете меня. Да и она в вас впилась взглядом – не оторвёшь.
– Вот когда в вас профессия заговорила, Альберт Александрович. Любите вы, журналисты, метафору, стало быть, из маленькой мухи слона накачать. Ничего в её взгляде не было – ни пристрастия, ни подобострастия. Просто узнала меня и остановилась…
– Не скажите… Уж мне со стороны было виднее – пожирала она вас своими глазками.
Вот такой разговор, больничный трёп, не больше, а всё-таки вселилась в тело лёгкость, упругость, даже послеобеденный сон не сморил Коробейникова. Чепуха какая-то получается: вроде в жизни чего ждёт Михаил Петрович, радостных открытий или, как ребёнок, конфетку сладкую во рту ощущает.
Храпел Альберт Александрович, стонал и скрежетал зубами во сне, а когда проснулся, просипел:
– Завтра пойдём наводить мосты.
– Какие мосты? – не понял Коробейников.
– А к вашей знакомой. Должна же она знать, что она красивая женщина. А то наш брат мужик – сухарь, может сверхделовым быть, не заметить красоту. А женщины, как цветы, любят, чтоб на них любовались.
Натянулось что-то в Коробейникове – насчёт завтра угадал журналист, собирался Михаил Петрович заглянуть к Нине, но никак не в компании с Альбертом Александровичем, беседовать легче не большой командой, а тет-а-тет, так удобнее, а то вроде разговора на стадионе получится, когда все кричат, а друг друга не слышат. А может быть, он просто загнан и устал, раним до обострённости, если так болезненно воспринимает…
Больничный режим, кажется, больше всего угнетал Коробейникова. Он просыпался рано по своей старой деревенской привычке, часов в пять и до половины восьмого, когда начинала пробуждаться больница, вертелся на кровати, жгутом свивал простыню, бесцельно глядел в потолок и думал, думал. Чаще всего думал Коробейников о работе – о том, как там без него управляется его заместитель, главный агроном Кожевников, мужик колготной, шумоватый, который готов любому и каждому доказывать свою правоту, «качать права». Кажется, многим хорош главный агроном – и дело знает, и поле любит, готов целый день, как пень, торчать у тракторов, не постесняется закатать рукава рубашки и в машину, в грязь залезть, гайки крутить, как заправский слесарь, а вот эту свою черту – шумливость, вздорность, пустяшные взрывы – не может в себе преодолеть. А вспыльчивый человек чаще всего выбивается из нужной колеи, и тогда всё не клеится, поводок самоконтроля рвётся.
Читать дальше