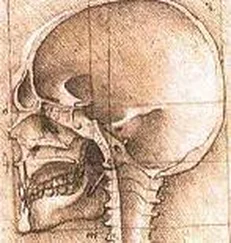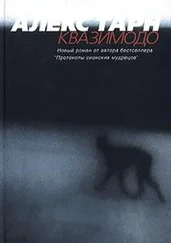Саша с готовностью рассмеялся. Анатолий Александрович встал с кресла и подошел к окну. Снаружи в ярком свете июльского полдня серебрился приветливый Амстель, горбатился мост, торчала уродливая бетонная громада культурного центра, шли пестро, по-летнему одетые люди, плыл речной трамайчик…
«Поэтому и забросил?.. — повторил он мысленно. — Себе-то зачем врать? Да и Саше мог бы прямо сказать… А что сказать? Что сказать? Что ты боишься? Причем боишься не только музеев, но и альбомов… да и в тех местах, где случайно наталкиваешься на вездесущие репродукции с подсолнухами, пшеничными полями или плетеными стульями, то всегда стараешься сесть так, чтобы не видеть… Но как объяснишь подобную нелепость? Что там такого страшного в этой желтой мазне?»
Анатолий Александрович пожал плечами. Ничего страшного! Ничего! Но неприятное чувство не слушалось, подвывало в животе, покалывало под сердцем. Хорошего настроения как не бывало.
— Ну, тогда тем более, — с энтузиазмом воскликнул Саша у него за спиной. — Пойдемте, Анатолий Александрович, что в номере сидеть? А на обратном пути пивка выпьем в баре. Решайтесь!
«А и в самом деле… — подумал Анатолий Александрович. — Сколько можно трусить? Это в конце концов ненормально. И вообще клин клином вышибают.»
Он повернулся к своему подчиненному и махнул рукой с шутливо-отчаянным видом, как будто собирался нырять с десятиметровой вышки:
— Гулять так гулять! Бог не выдаст, свинья не съест!
На Рембрандтплейн, где они садились на трамвай, перед баром гудела оранжевая толпа футбольных болельщиков.
— Опаздываем, Анатолий Александрович, — пошутил Саша. — Посмотрите, еще и часу нету, а аборигены уже набрались под завязку. Тут вам и травка, и пивко… И только мы ни в одном глазу. Ну ничего, вот только в музее отметимся и догоним.
Анатолий Александрович слабо улыбнулся. Его немного подташнивало от волнения. Когда он в последний раз стоял рядом с раскрашенными холстами ценой в миллионы долларов? — Уже и не упомнить…
«Ага, не упомнить… опять врешь. Все-то ты помнишь. Эрмитаж, привозная выставка из музея Креллер-Мюллер. Почти сорок лет прошло, а будто вчера…»
Он даже подумал, что мог бы и сейчас безошибочно восстановить, где что висело. Вот уж потрясло так потрясло…
В музее Саша сразу побежал вперед, особо не задерживаясь перед картинами.
— Иди, иди… — махнул ему рукой Анатолий Александрович. — Я пойду в своем темпе. Тут выход один, не потеряемся.
Экспозиция была построена по хронологическому принципу. Анатолий Александрович медленно шел по залам, прислушиваясь к себе. Там, внутри, не происходило ничего особенного. Да и почему что-то должно было происходить? Ну какое ему дело до чужого сумасшествия? Ну, допустим, когда-то, очень-очень давно, он, случайный зевака, по недомыслию заглянул в черную адскую пропасть, в которой жил тот, другой. В пропасть, откуда слышались плач и стоны, где клубилась ненависть, дышало страдание. Заглянул и сразу отшатнулся. Разве такой секундный погляд делает его, положительного и серьезного человека, рабом этого рыдающего безумия?
Конечно, нет. У него все в порядке.
— У меня все в порядке, — сказал Анатолий Александрович вслух, чтобы услышать свой голос.
Вышло неожиданно громко, так что стоявший перед ним кореец с кинокамерой испуганно отшатнулся. Нужно было бы улыбнуться, но Анатолий Александрович не смог. Конечно, у него все в порядке. Семья, работа, уважение окружающих, налаженная и спокойная жизнь. Кому-то она может показаться скучноватой, но у каждого ведь свои запросы. Кто-то любит жить в суете и калейдоскопе событий, а кому-то дороже спокойствие. Он, Анатолий Александрович, из последних. Обычный человек с обычными запросами. Вот и все. Так просто. Он вздохнул почти облегченно. Похоже, происходило избавление от многолетней мучительной фобии. Нужно будет Саше премию дать за то, что подарил ему этот сеанс шоковой терапии.
Впрочем, если уж вспоминать о пропасти, то было бы неправильным сказать, что она разверзлась перед ним именно в ту давнюю белую невскую ночь. Все произошло намного, намного раньше, еще в детстве, когда он впервые увидел на репродукции эту ослепительную солнечную желть и безошибочным чутьем определил под ней чавкающую грязь мерзлого мертвого поля. Он знал это всегда, вот в чем дело. Знал и пытался отодвинуть, выстроить между собой и осыпающимся краем непреодолимый барьер слов и вранья. Слов и вранья. Ведь если назвать жажду смерти любовью к жизни, разрушительное безумие — чудесной гармонией, а ненависть к себе — радостью бытия, то вполне можно жить, правда ведь? Внушить себе, что пропасти нет, что вместо нее расстилается невинный лужок с музицирующими пастушками, загнать страшную правду в самые дальние чуланы сознания — и жить.
Читать дальше