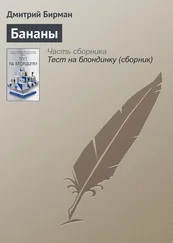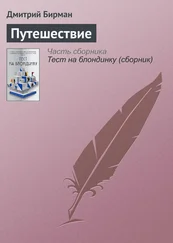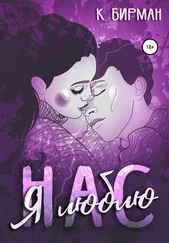Е. Бирман - Рассказы
Здесь есть возможность читать онлайн «Е. Бирман - Рассказы» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Так что же тебя зацепило в этой книге? — Я не утерпел и перебил его, мне хотелось предъявить собственную недавно сформулированную мысль. — Доказательство третьего закона Ньютона в приложении к человеческой природе и истории: сила стремления к святости рождает равную ей силу отката к звериным инстинктам?
Он улыбнулся, отдав должное моей формулировке, а может быть, схитрил, чтобы польстить мне и заработать большую долю ответного внимания.
— И это тоже, — сказал он, — но это во второй половине романа, преимущественно русской по стилю. Я — больше о первой половине, где подготавливается финал. Ты ведь знаешь, книгу какое-то время приписывали Набокову, а я, как только начал читать, сразу почувствовал — книга написана евреем.
— А, ты об этом, — рассмеялся я.
— Ну да, — добродушно-виновато рассмеялся и он. — Ну, правда, это очень интересно.
— Ладно, давай, — сказал я.
— У меня с самого начала было чувство, что этот роман — искусственная смесь еврейской холопской подлости с русским безоглядным дикарством. Еврейская имитация русского взлета души и русского падения. Ох уж это русское благородство! — воскликнул он, и я почувствовал, что сейчас будет один из этих его взлетов с падением коршуном на жертву. — Первое непоротое поколение уже возносится выше архангелов, рассаживается у Высшего Трона и уж там демонстрирует свое бесконечное (конечно же, бесконечнее, чем у всех других!) смирение. Меня недавно поразила русская паломница в Храме Гроба Господня. Она упала рядом с гробом на колени, вытянула вдоль гроба руку, положила на нее голову, и столько в лице ее было печали! Даже Набоков, при всей его безупречности, не утерпел и одного из своих романных отцов уже в начале двадцатого века укокошил на дуэли, которой герой отстаивал честь сбежавшей от него англичанки-жены. Русское благородство! Благородное самопожертвование и убийство из благородства! И если мне это благородство часто горчит комплексующим высокомерием, то когда русский еврей примешивает к нему своего убожества, выглядит это так, будто обезьяна нацепила на себя манишку цирковой собаки.
Я рассмеялся, и сидящий против меня коршун быстро стал обращаться моим улыбающимся приятелем на фоне темного в сумерках пляжного песка.
— И знаешь, это ведь все больше в литературе, — вполне мирно продолжил он, — где любой народ больше фантазирует о себе, чем говорит правду. Я ведь в жизни не много встречал в русских ни этого дикарства, ни этой безоглядности, и евреи нередко бывали до смешного, до карикатуры, наивны и пресно-праведны.
— Ты большую часть жизни, и здесь, и там, вращался в инженерной среде, — возразил я.
— Да нет, я много времени проводил в цеху, с рабочими. И там тоже этой дикости и безоглядности было немного. Ну, может быть, присол такой, для компенсации статуса в стране, где об интеллигентности принято было говорить с придыханием.
— А тут, — вернулся он к роману, — с самого начала с одной стороны понадобилось автору главного героя, гимназиста, сделать русским, но приделать ему такую седенькую печальную мамочку с покорным любящим взглядом. Я среди русских никогда не встречал похожего человеческого типа. И такая степень практического издевательства над собственной матерью тоже, на мой взгляд, непредставима у русских. В общем, это начало подняло во мне волну раздражения, мне показалось, что я распознал характерный случай ограниченности, распространенной среди еврейских интеллектуалов России, приводящей их к иллюзии, будто за пределами этой гремучей русско-еврейской смеси нет достойной их ценности, только необжитая земля, целина какая-то, неуютная, хуже всего — чужая.
— Недавно здесь в гостях был мой сокурсник из России, с которым мы делили комнату в наши студенческие времена, — продолжил он, и за последним его выпадом обрисовалась конкретная мишень, — он носился в трепете по следам семнадцатого (может, и не семнадцатого, не знаю) из еврейских пророков. Прошел по его крестному пути, искал места, связанные с его жизнью. Мне казалось, он вовсе не чувствует, что идет по земле, на которой Давид обрек на смерть Урию, чтобы завладеть Вирсавией, которая не Вирсавия, полученная им из третьих рук в переводе с иврита на греческий, а с греческого — на русский, а Бат-Шева. Что он в тех самых местах, где Авраам выдавал Сару за сестру, чтобы не быть убитым. Что ступает по земле, в которую вернулся Иаков (который Яаков), обнаруживший на ложе Лею вместо Рахили, где Соломон (который Шломо) исследовал смысл жизни, где Иов получил благосклонный, хоть и такой… сурово-туманный отзыв Бога на свою диссертацию о человеческой морали. У меня, знаешь, сердце сжималось от жалости к нему, когда я смотрел, как он носится по Иерусалиму, взволнованный и ошарашенный, словно прижимает с восторгом к груди драгоценную реликвию — разваренную луковицу, оставшуюся от съеденного супа. Я пытался зацепить его этой связью с Иовом, Рахилью, но он был недоверчив и, казалось, уже отмечен чем-то, чего не изменишь, — отловленный беспризорник, приведенный в родовое имение и спешащий сбежать к себе под мост с серебряной ложкой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.