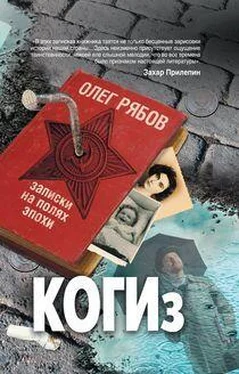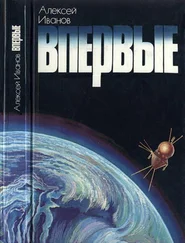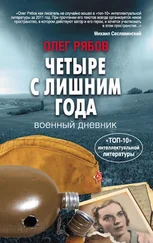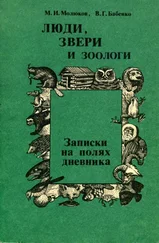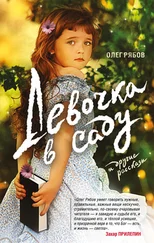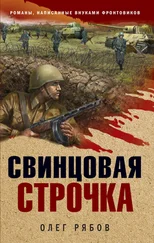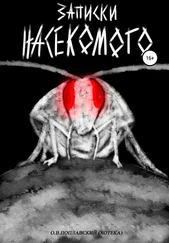Полтора года вынужденный заниматься в Европе одним и тем же: перебирать и просматривать картотеки и каталоги библиотек, коллекций замков, музеев, университетов, Шура сумел по определенным значкам (плюс, знак восклицания, два креста или простая, как вспышка молнии: «rare!») выуживать из многочисленных шкафов и стеллажей какие-то необычные книжечки. Он от роду не был ни библиофилом, ни книжником, а тут от нечего делать вдруг обнаружил, что существует недоступный для него информационный мир книг с автографами. Он понимал интуитивно, что русские книги с автографами русских людей любым путем должны оказаться в России, он чувствовал, что эти книги являются одной из основ культуры его Родины. Так Шура начал отдельные издания, альбомы и рукописи, что помечались в немецких каталогах как «раритет», тоже упаковывать в контейнеры для отправки.
И вот теперь, спустя месяцы, за тысячи километров от Альп, Шуре благодаря случайному знакомству с безногим Александром Ивановичем открывались странные и замечательные истории, скрытые за каждой закорючкой, памяткой, автографом на книгах, прибывших в контейнерах из далекой поверженной Германии.
Сосед на подшипниковой таратайке теперь по вечерам ждал Шуру на крыльце с потухшей козьей ножкой в изуродованных пальцах и с загадочным выражением лица: смесь любопытства и превосходства, заискивания и покровительства.
Шура быстро взбегал на крыльцо, не глядя, совал сверток с книжечками или альбомом с фотографиями в руки инвалиду и пробегал в дом, чтобы переодеться и умыться. Через некоторое время в домашних брюках, в майке, с бутербродом он выходил на крыльцо, где его ожидал новый сосед с уже готовой лекцией.
– Вы посмотрите, Шура, какая замечательная связь. Вот на этой французской брошюрке, изданной в Женеве в 1865 году и являющейся какой-то библиографией каких-то журнальных статей по римскому праву, написано, что ее дарит князю Владимиру Черкасскому некий А. или Н. Лисаневич, товарищ по лицею.
Замечательных Лисаневичей в начале XIX века было двое: один – генерал Дмитрий Тихонович – герой, в течение двадцати лет державший в кулаке весь Кавказ и прозванный там «Дели-майором» – бешеным майором, пока его в 24-м году не зарезал какой-то горец. Ему на смену пришел Ермолов. А вот автор этих каракулей на обложке брошюры, по всей вероятности, сын другого генерала Лисаневича, Григория Ивановича; в отличие от первого он был белой костью – друг Кутузова, брал Париж, император пользовался его советами; позднее вместе с Аракчеевым он занимался проектами переустройства России. А проекты эти осуществил через пятьдесят лет, только уже в другой стране – в Болгарии, адресат этой брошюрки – князь Черкасский, друг Чаадаева, Самарина, Киреевских, один из образованнейших людей середины девятнадцатого века. Он принял непосредственное участие в освобождении и создании независимого государства Болгарии. Его должны помнить и Плевна, и Шипка, и Тырново, и Габрово. Он создал и утвердил для Болгарии всю систему государственного устройства, по которым она живет уже семьдесят лет. Когда он умер, его гроб был привезен в Москву, и упокоился его прах между могилами Гоголя и Хомякова в Даниловом монастыре.
Инвалид говорил быстро, сбивчиво, но очень логично и законченно, и поэтому все было для Шуры похоже на рассказ из чужой жизни: как будто Гомера читаешь: какие-то имена знакомы, какие-то – нет.
– Шура! Вы посмотрите, – сосед протянул ему, сидя на тележке, хохоча и тыча пальцем, оттиск какой-то журнальной статьи. – Вот уж не думал, что этот Трехзвездочкин тоже был корреспондентом Огарева. А вот здесь черным по белому да по-французски: «Дорогому Николаю Платоновичу».
– Александр Иванович, а кто такой Трехзвездочкин?
– Да это легко! Трехзвездочкин – это Макаров. В библиотеке вашего папаши, а точнее, уже в вашей библиотеке есть десятка полтора его книг. Это все макаровские словари: русско-французские, французско-русские, немецко-русские, словари латинских выражений и так далее. Знаете, о чем я говорю?
– Да-да! Конечно!
– Так вот, интереснее другое. Ну, для справки: Макаров был чухломским помещиком, но долгое время жил в нижегородском родовом имении Болтина, на дочери которого женился, и поэтому он почти что ваш земляк.
В тридцатые годы я преподавал в Ленинградском институте истории искусств, где сблизился с опоязовцами Тыняновым и Эйхенбаумом. Юрий Тынянов к тому времени уже выпустил свою книгу «Архаисты и новаторы» и очень гордился ею. Книга прекрасная – там есть чем гордиться. Лучше в советском литературоведении не было ничего, ну, может быть, две монографии Миши Бахтина, которые он выпустил под псевдонимами, взяв для них фамилии своих учеников Павла Медведева и Волошинова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу