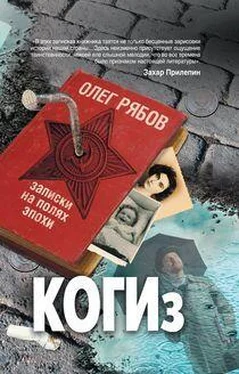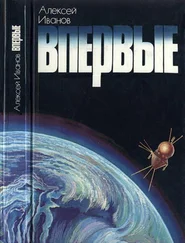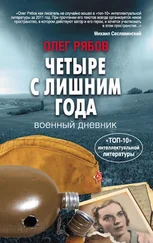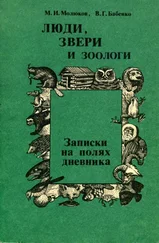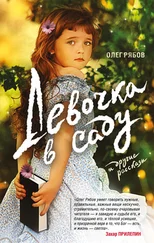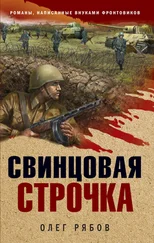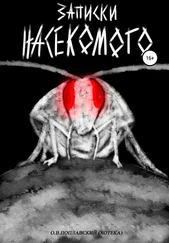– Это что за Библия Скорины? – перебил профессора Генка.
– Библия Франциска Скорины – для русского библиофильства книга номер один или два. Ну, в общем, она делит первое место с «Путешествием» Радищева. Для примера: в середине XIX века вышел каталог книг одного русского коллекционера-магната, в котором он для памяти проставил цены, по которым покупал книги. Так вот: «Арифметика» Магницкого – десять рублей, «Апостол» Ивана Федорова – триста пятьдесят, а Библия Скорины – две тысячи двести рублей. Напомню я вам, Гена, что Грибоедов деревню с крестьянами покупал за тысячу. Вот что это за книга!
В свое время я близко сошелся с Бородой – Юрковым, вы его должны знать: он постоянно торчал в когизе, помогал там на общественных началах. Так вот он буквально болел идеей разыскать Библию Скорины, почему-то был уверен, что у наших староверов-кержаков где-то хранится эта книга с собственноручной вкладной записью царевича Алексея. Юрков и сам был старообрядец, и ему покровительствовал Михаил Иванович Чуванов с Рогожского кладбища в Москве. Тот еще хранитель древностей.
Книги на церковно-славянском языке Юркову привозили грузовиками, платил он по пятьдесят рублей за грузовик – как за дрова, а потом разбирал. Я несколько раз у него дома бывал при этих разборах.
Но сначала хочется рассказать о культурной карте Европы времен Франциска Скорины: он был современником не только Дюрера, но и Рафаэля. Да-да! То великое европейское Возрождение коснулось, и очень непосредственно, России.
В Европе в то время существовало как бы два славянских православных государства – это Речь Посполитая с населением в пятнадцать миллионов, с территорией от Балтийского до Черного моря, с крупными университетскими городами, где уже зарождалось книгопечатание: Вильно, Краков, Полоцк, Прага, Киев; а другое – небольшая Московская Русь с населением три миллиона, практически княжество, которое сопротивлялось присоединению к большому славянскому государству.
Через сто пятьдесят лет Никону реформами пришлось расколоть свою Церковь, чтобы разрушить вражеское государство Речь Посполитую, присоединив Украину к Царству Московскому. А первопечатник Иван Федоров является не кириллическим, а московским первопечатником. Первые кириллические книги начали печататься еще в XV веке, только называются они палеотипами. А Иван Федоров канонизировал печатный кириллический шрифт. Хотя начал он свою типографскую деятельность тоже в Речи Посполитой, напечатал в Остроге свою Острожскую Библию. И главное, о чем забыл: все князья в Речи Посполитой были Рюриковичи. Вот в какие времена творил свою Библию Франциск Скорина.
А что касается наших заволжских скитов, то в них зрели антиправительственные настроения, у них была связь с царевичем Алексеем Петровичем, человеком грамотным, начитанным и книжным. У сына Петра I была хорошая библиотека; рукописи и печатные издания, принадлежавшие ему, хранятся в библиотеке Академии наук. Можно также вспомнить Петра Андреевича Толстого, сподвижника нашего первого императора, именно ему, хитрому и изворотливому, Петр поручил деликатное задание: «уладить семейный конфликт». Именно он привез из Европы на родину запуганного и обманутого наследника. Напрашивается вопрос: а не могла ли у пройдохи оказаться в руках эта редкость, со знанием дела приобретенная царевичем-книголю-бом в Польше? А через Толстого прямой путь для этой книги на Макарьевскую ярмарку, главное старообрядческое торжище в устье Керженца.
Если пройти немного вниз от Грузинской по Алексеевской, то можно увидеть на пригорке небольшой домик. Он зовется «дом графини Толстой». Один взгляд на него дает представление о том, что такое жилище екатерининского вельможи. Графиня Толстая, которой принадлежал этот дом с огромным парком, была дочерью князя Грузинского, знаменитого самодура и «покровителя» Макарьевской ярмарки. Обладала она не только фамилией, а через мужа-графа была наследницей богатств петровского фаворита. В 1829 году вышел каталог библиотеки графа Федора Андреевича Толстого, потомка Петра Андреевича – сподвижника царя. Так в нем есть слова: «Нет нигде столь полного и хорошо сбереженного собрания книг, изданных Скориною». Еще при жизни Федор Андреевич распорядился своей коллекцией книг: часть распродал, часть передал в семью своей нижегородской родственницы, часть разделил. Например, императрице Марии Федоровне он преподнес в дар триста книг, а оставшиеся государство приобрело для Императорской библиотеки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу