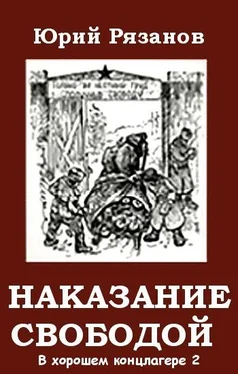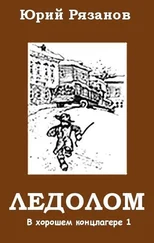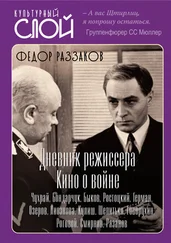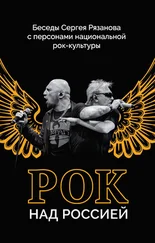— Ну Лизанов! Мы ессё встлетимся с тобой на пелесылке, поговолим…
И — встретились. Сбылось предсказание пахана. Правда, не на пересылке, а в том самом лагере, за воротами которого он так эффектно когда-то выступил.
Сидит на скамье, как в зале народного суда в ожидании приговора, который ему вынесет бригада. Почти сорок гавриков. И я в их числе.
Тот же голос с чувством, с надрывом исторгал каждое слово:
Не для меня
Весна вернётся,
А сердце
Радостно забьётся
Нe для меня,
Не для меня…
Надо же такому случиться, что и от моего решения зависит — немного, но зависит — судьба человеческая, и чья! Бывшего пахана! Хотя к тому моменту у меня возникло какое-то странное, новое восприятие этого человека, одновременно похожего и вовсе не похожего на прежнего Тля-Тля — номенклатурного блатаря. Это был не только не тот Витька, но ещё и жалкий, растерянный и даже… беззащитный. Дистрофик. Теперь с ним мог совладать каждый. И наконец-то отомстить за обиды, за всё, чем он был прежде. За обиды, им причинённые, и вообще блатными. Выплеснуть на него всю горечь, копившуюся годами. Но именно его беззащитность и безответность погасили моё желание расплаты Тля-Тля за некогда им содеянное.
Сейчас мы решим его судьбу: остаться в нашем, вовсе не сучьем, как его блатари нарекли, лагере или поплыть по этапу в неизвестность. Возможно, в никуда.
На этапах, особенно на пересылках, в вагонах-заках в любой момент его худую шею может захлестнуть намыленная удавка. А дважды из петли, не слыхал, чтобы кому-то удалось вывернуться. Уж что профессиональные преступники умеют хорошо делать, так это убивать. Редко кто у них срывается с ножа, выскальзывает из петли, уклоняется от топора или пики, а на воле — от финки либо пули. И приговор сходки, постановившей землянуть даже авторитетнейшего босяка, никто не отменит, до самой его, непутёвого, смертушки, никакой Верховный суд не помилует.
Слушая заверения бывшего пахана, что он намеревается, дескать, честно трудиться и тому подобное, ни один из нас не сомневался, что этот извращённый необузданной властью над порабощёнными людьми блатной фюрер не исправится, не станет другим. Потому что прогнил насквозь воровской проказой. А горбатого, как известно, лишь могила исправит.
Никто не рискнул взять его в напарники по работе, поручившись за бывшего урку, — отвергли. Не нашлось ни одного желающего связать с ним, подонком, свою судьбу. У меня тоже такого желания не возникло — слишком хорошо знал я Витьку. Кстати напомнить, моего земляка и почти соседа — он жил в двух кварталах от меня, на улице имени Карла Маркса, недалеко от трамвайного поворота на улицу имени Сталина. До тюрьмы я его видел несколько раз всего — в компании со знакомыми пацанами с нашей улицы и с других. Но что у этих парней было общее, так нищета, в которой они росли, почти у всех — безотцовщина, полубродяжий образ жизни. Все они, сбившись в стаю, держали остальных соседских ребят — «домашняков» — в страхе. И лучше было на улице им не попадаться. Они, разумеется, воровали, отнимали еду у младших и робких. Тем и жили. Тля-Тля был среди них самым шустрым. И авторитетным. Ну как же — отец из тюрьмы не вылезает, старшие братья тоже давно по концлагерям скитаются. Ими Тля-Тля, будучи тщедушным и низкорослым, запугивал ребят. Вот, дескать, освободятся братовья — сразу вас зарежут. Если кусок хлеба мне не дадите… Знал я, что Витька не ладил с отчимом, а точнее — с одним из них. А может, и со многими. Существовал он впроголодь, рано бросил учёбу в школе.
И вот наступила катастрофа. Моя. И однодельцев. Городская тюрьма номер один по улице имени Сталина. Камера номер двадцать семь, которую к тому времени держал молодяк, то есть молодой вор, принятый преступным миром в свою среду, — Тля-Тля. Прозвище это прилипло к нему давно. Из-за дефекта речи.
Ко мне Витька-пахан отнёсся свысока, не признав своим. Но и не подвергал насмешкам, издёвкам и измывательствам, как некоторых сокамерников-фраеров. Из вечно голодного и ободранного полубеспризорника Витька в тюрьме быстро превратился в разожравшегося, толстомордого, с жирным брюшком, наглеца. Этакого самодержавного правителя всея камеры. Отвращение и ненависть к себе Тля-Тля вызвал у меня диким поступком — наказанием сокамерника, не пожелавшего добровольно отдать половину продуктовой посылки, полученной, наверное, от жены, — блатным. Наказание «Моляцка» — так называл его паханок, потрясло меня настолько, что я впал в состояние почти полной невменяемости.
Читать дальше