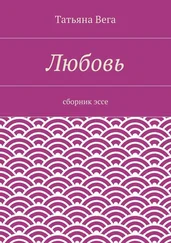Был на конгрессе и Марк Виллемс. Вот странный человек! Появился под самый занавес, на последние два дня, почему-то поездку эту сделал тайной, приехав под именем господина Жирара, в то время как возглавлял бельгийский комсомол и в СССР уже бывал — чего ему понадобилось прятаться? И почему весь конгресс пропустил? Правда, за два дня он проявил такую бешеную активность, что всем стало ясно, что он из породы сталинских соколов. На банкете после завершения конгресса он, посаженный во франкоговорящую компанию рядом с Вилей, все время произносил тосты и несколько утомлял.
— В Брюсселе людей надо убеждать и воспитывать, — говорил он, — а в Москве никого убеждать в великом подвиге товарища Сталина не надо, здесь надо только строить, и я как инженер-чертежник приложу все усилия для того, чтобы спроектировать все, чего здесь недостает. Так выпьем за великого Сталина, великую Москву и великое дело коммунизма!
Сидевший наискосок Жак, на которого Виля все время поглядывала, смотрел в свой бокал, делая вид, что не слышит пламенной речи товарища Виллемса. Вообще-то французы не привыкли к тостам, так что он, наверное, не знает, как надо их слушать и потом соединять бокалы и пить до дна. Кажется, и грузинское вино ему не очень нравится. Виля слышала про французское вино, но ей так и не удалось его попробовать. Виллемс же пил залпом, а после этого рассказывал какие-то дурацкие истории: что у него жена цыганка из Бессарабии и что она помогает победе коммунизма тем, что умеет, — гаданием. Все засмеялись, а неутомимый Виллемс стал рассказывать, что она ему нагадала, будто он будет жить до конца своих дней на Севере, а ее, как южанку, это пугает.
— Выпьем же за Север, самый теплый на свете — Москву!
Виля бросила взгляд и на Жюля, он сидел чуть поодаль, с поднятым бокалом. Кивнул Виле и сказал: «За Москву, столицу мира, за Сталина!» (Вот молодец потомок швейцарских часов, никакие вихри не заставили часы эти исчезнуть или показывать другое время, они и в XXI веке носят ту же фамилию, а XXII века уже не будет.)
Все немало выпили, пошло бурное веселье, и Виля вдруг заметила, что стайка франкоязычных соколов — желторотые юнцы. В советском Коминтерне она была младшенькой, подающей надежды, а ведь ей уже двадцать шесть! Соколы радуются жизни, а Виля все ждет какого-то будущего, в котором ее надежды наконец сбудутся. Будущее оно вот, за этим столом.
Виллемс вызвался провожать Вилю. По дороге он оглядывался, восхищаясь Кремлем, и вообще всю дорогу восхищался — цинандали, осетриной, блестящей организацией конгресса, Тверским бульваром, а потом сказал, что самым лучшим, что он увидел, была Виля. Он говорил про ее ум, сдержанность, обаяние, про очи черные (это он знал по-русски) и про то, что его не обманешь, под ее серьезностью и строгим костюмом скрывается — он это видит — и не сказал, что видит, потому что дальше говорили руки. Виола оторопела. Она к такому обращению не привыкла, а комплиментов и вовсе никогда не слышала. Она привыкла к мужской грубости, когда ее со смешком хватают за что-нибудь в коридоре, привыкла к тому, что ее романтические чувства всегда адресовались к типам, которые иногда отечески гладили ее по голове, но в принципе не замечали, а тут происходило что-то незнакомое. Она вдруг вспомнила, что завтра участники конгресса разъезжаются, и оттолкнула Марка, пожелав ему счастливого возвращения домой, к жене-цыганке. Но он сказал, что никуда не уедет, потому что теперь единственное его желание — это остаться с Виолой, и если она его прогонит, он будет сидеть у ее крыльца, чтоб хоть за дверью, но быть рядом с ней.
Нельзя сказать, что Марк Виоле понравился (в отличие от Жюля и Жака), но ее настолько захватила эта франкоязычная молодежь, что в принципе они понравились ей все. Они открывали ей новую жизнь, зажигали мировую революцию. Энтузиазм Октября давно угас, и Виля лишь по инерции шла в выбранном некогда направлении.
Революция вспыхнула в самой Виоле. В советском обиходе культивировались три женских типажа: толстомордая буфетчица, размалеванная профурсетка и партработник в костюме. Женщина-партработник выросла из чеховских трех сестер, из ученых дам Мари Кюри и Софьи Ковалевской, из террористок Софьи Перовской и Веры Засулич и из монашеских сутан. В Виоле все эти грани присутствовали, но тут они рухнули разом, как темница, в которую она была заточена, как кандалы и наручники, казавшиеся ей до этого ее собственными ногами и руками. Ее прорвало. Единственный зов, который она теперь слышала, был зовом плоти. Привычный мир — сын, который только начал ходить в школу, круглосуточная работа с полусвободным расписанием — стал призрачным, затонул, как Атлантида. Она умирала от любви к Марку Виллемсу, но это не мешало выплескивать избыточную и застоявшуюся энергию повсюду вокруг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу