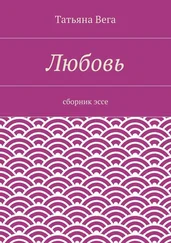Может быть, если бы бабушка накричала на меня, поставила в угол (что иногда делала мама, не помню уж, по каким случаям), то есть если бы я получила свое наказание, я бы забыла об этом эпизоде. Но бабушка, как всегда, спокойно напомнила мне о том, что надо спрашивать разрешения. Было стыдно. Я переживала, что бабушка осталась без духов, что я ее подвела, зачем-то нарушив предписанный мне кодекс поведения. Я должна была входить в мир людей постепенно, осваивая сотни правил, на которых он зиждился, а не так, с наскока, как слон в посудной лавке. Песталоцци! Был еще более неприятный эпизод. Мама лежала в постели больная, почему-то не на своей кровати, а на бабушкиной. И они ругались. Может, это был тот единственный раз, когда они ссорились в моем присутствии, не помню, с ДС мама скандалила постоянно, но в этот раз я должна была сделать выбор. Остаться с больной мамой или пойти с бабушкой на улицу, потому что бабушка была очень сердита и собиралась уйти. Я помню это свое психологическое затруднение (мне было, возможно, лет пять), но оно было секундным. Я не просто ушла с бабушкой, но еще и хлопнула маму по одеялу, как бы мстя за бабушку. На улице бабушка сказала мне, что я поступила нехорошо. Я понимала, что нехорошо, но так и повелось: я и взрослой почти никогда не принимала мамину сторону, не зная, на какой генеалогической глубине залегли корни этого отталкивания.
Один пункт воспитательной программы никак не удавался: общение со сверстницами. Это же неправильно, чтоб ребенок все время проводил либо со взрослыми, либо один. Ну что, позвала я к себе — под педагогическим давлением — девочек, живших в соседнем подъезде арбатской квартиры. Показала им свои любимые книжки, купленные на улице Веснина (ныне Денежный переулок): детские французские книжки про пса Пифа и кота Геркулеса. Там были вклеены марочками трехмерные картинки — это когда направо картинку повернешь — видишь один рисунок, налево — другой. Сейчас и открыток таких полно, а тогда это было диковинкой. Девчонки взяли и вырвали картинки из книжек, когда я отвернулась, а потом всем показывали во дворе как свои. Я очень расстроилась: и картинок было жалко, и еще хоть бы интересно было с девчонками, а было скучно. Я подошла к ним во дворе и сказала: «Это мои картинки, вы их украли», а они посмотрели мне прямо в глаза и ответили: «Нет, это наши картинки».
Мне нравилось на даче в грозу, когда небо черно и дождь хлещет за окном, сидеть в натопленной горнице с цветными карандашами и рисовать. Я помню эти карандаши: набор в плоской железной коробке, изготовленный на фабрике Сакко и Ванцетти. Я рисую каляки-маляки, которые для меня вовсе не каляки, а что-то вроде иероглифов или снов: я пытаюсь нарисовать картину мира, своего крохотного мира, в котором каждый день появляется что-то новое, который вызывает переживания, не понятные взрослым. Дед учит меня не бояться: под его присмотром я глажу по бархатной спинке огромного шмеля. Все просто — я обращаюсь к шмелю не как к врагу, а как к другу, я настраиваюсь на его волну, и он меня ни за что не укусит. Сосед завел несколько ульев. Они в самом конце участка, и через забор рой перелетает на наш участок. Рой — это странное образование, единый шар, состоящий из сотен гудящих пчел, поэтому подвижный, и я беру его в руки и несу к дому, показать всем. Шар двигается за моими ладошками, и вот я подхожу к террасе, на которой сидят мама, ДС, какие-то гости. При виде меня все вдруг вскакивают, начинают визжать и бегать, мои пчелы разлетаются и кусают обезумевших взрослых. Больше всех досталось ДС, его укусили в язык — наверное, он больше всех кричал. Я опешила, я не понимала, что вызвало вдруг столь ужасный поворот событий. Мне объяснили, и с тех пор я стала бояться пчел и шмелей. Ос я боялась и раньше, дед объяснил мне, что оса может жалить бессчетное число раз, потому ей ничего не стоит напасть первой, пчела же, ужалив, умирает, и она готова погибнуть лишь за что-то для нее важное.
Мефистофель моих тринадцати лет снабжал меня силами долгие годы. В шестнадцать я встретила человека, старше меня на двадцать три года, и полюбила его. За то, что он был высокий, худой, с черными волосами и глазами, орлиным профилем, узкими губами, а когда смеялся, язык его был виден и шевелился, как у змеи. Именно так и выглядел в моем представлении, согласно литературной и театральной традиции, Мефистофель. Кроме того, он говорил: «Я злой», и мне это нравилось, хотя злым он не был, это было позой, переименованной впоследствии в имидж. В процессе нашей совместной жизни мое «поклонение дьяволу» достигло апогея: я научилась двигать карандаш, не прикасаясь к нему, ставить ожоги пальцем, вызывать температуру, лечить. Парапсихологи затаскали меня по своим тестам, а моему мужу — лже-Мефистофелю все это категорически не нравилось. Он был материалистом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу