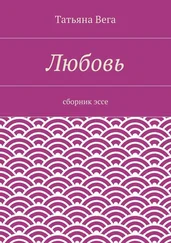Омск, который не стал триумфом в жизни моей бабушки, должен был стать им в мыслях. В том отсеке мозга, который заведует речью. В другом отсеке, тайнике, можно было хранить и необработанную информацию. Виола победила, сын — ее трофей. Вещественное доказательство победы красных над белыми. До тех пор, пока он жив.
Психологически невозможно было признаться себе в том, что победило зверство. Строить человеческое сообщество из разбушевавшейся биомассы, вкусившей крови, было еще невозможнее. И Сталин повернул штурвал: «прогнивший царизм» оказался единственной знакомой и ему, и народу формой общежития. Может, и можно было доплыть до берега без того, чтоб растапливать машину времени людьми, но как заставишь ее завестись? Способов таких Сталин не знал, а террор — это то, что умеет каждый.
И я вот думаю, как все это происходило: родилась моя мама — плод Коминтерна. Не заплутай в дебрях бабушкин возлюбленный, не заплутал бы по дороге к победе и Коммунистический Интернационал. Частное — примета общего. В те годы признаться в поражении значило объявить себя предателем родины. Родина — это и собственная судьба. Для того чтобы в ней настал счастливый конец, состоять она должна из промежуточных успехов. А на каждую закинутую удочку рано или поздно клюнет карась.
Ну не стыдно ли судьбе как виду искусства, что Виолу однажды поманили в Париж, не пустили в Париж, напугали Парижем, она там так никогда не побывала, и тема оказалась просто закрыта? Нет, люди поколения Виолы, те, кто прошел ад и выжил, удочек не сматывали. Отдавая меня во французскую спецшколу, бабушка мечтала, хотела, знала, что я окажусь в Париже. Бабушка не летала ни разу в жизни: самолеты бьются, как посуда . Мама летала редко, всегда предпочитая поезд и перед каждым отлетом прощалась со мной трагически, будто отправлялась в последний путь. А внучка как вылетела из семейного гнезда самолетом, так и летает. Так что и эта удочка заплодоносила. На мой школьный выпускной бал мама сшила мне длинное розовое платье и отправила к своей парикмахерше сделать прическу «с начесом» (который потом я долго выстригала, потому что он превратился в колтун). Она хотела, чтоб я походила на бабушку. Зная, что бабушка не любила розовых платьев и высоких причесок, но именно в таком виде предстала на домашнем выпускном балу, мама разрешила дилемму прямым повтором бабушкиного окончания гимназии.
«Нехорошая квартира» появилась в моей жизни из-за прискорбного обстоятельства. Дед пил. Не оставлять же меня с алкоголиком без присмотра. Потому что от мамы какой присмотр — у нее своя молодая жизнь. Бабушка, как главная в доме, пусть и смертельно больная, умела сладить с чадами и домочадцами, нити нашей семьи были в ее руках. В арбатской квартире я лишь дважды видела деда пьяным: в первый раз испугалась и попросила его, как сердечного друга, больше не напиваться. Он пообещал. Когда я снова застала деда в неподобающем виде, в моем детском мироздании произошел серьезный катаклизм. До сих пор я знала, что данное слово ни за что не может быть нарушено. «Ты же обещал, — в слезах взывала я к деду, мало что понимавшему в тот момент. — Как ты мог не сдержать слово?» Это был «закатный» период нашей арбатской жизни, потому так и случилось. Как в брежневский период заката социализма — поддержание жестких порядков уже не удавалось.
Был и другой аспект нашего переезда: с каких-то пор мама не любила деда, иногда ненавидела. Без бабушки мы как бы и не были семьей. Дед скучал, звонил, интересовался, переживал, а мама вспоминала о нем лишь в тех случаях, когда ей было что-то нужно. Эти перепады: от грубого почти «пошел вон» до «дорогой папочка» — меня коробили, и я бы опять хлопнула мать по одеялу, если б соответствующая сцена произошла между ней и дедом. Что ж это я такая ужасная? Разве может ребенок занимать по отношению к матери позицию мирового судьи? Хотя дело не во мне, а в Песталоцци: если ребенка заставить выбирать между его первыми богами — родными, нервная система завоет сиреной, но выбор сделает. Моя болевшая нервная система и вовсе должна была дать дуба, но у нее была опора — бабушкины наставления. Я выбирала, как мне казалось, справедливость — призрачную и очень опасную субстанцию. В распрях мамы с дедом я все же сдерживалась, найдя для себя новое убежище — страдание.
Дед беспрекословно помогал маме — он был довольно могущественным человеком, мог, если очень надо, воспользоваться «вертушкой» и никогда не отказывал маме в том, чтобы что-то «пробить».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу