Он довольно долго молчал, и я уже подумала, что не ответит. Но затем произнес так тихо, что я вынуждена была напрячь слух, чтобы расслышать:
— Птица.
— Да, та прекрасная черная птица, которую вспугнул мамин крик, — она так и исчезла в небе, со своими печальными рубиновыми глазами, своим почти человеческим криком. Она снилась мне время от времени, и, когда я просыпался, мою ладонь пощипывало в том месте, где на ней лежало и растворилось перо. И я снова вспоминал, как мой прадедушка держал меня за руки.
И тогда во мне с новой силой вскипала злость на мою мать, хотя, как свойственно детям, я переносил эту ненависть и на себя. Сначала я думал, что по ее вине упустил птицу и потерял все, что она могла мне дать. В следующий момент я ругал уже самого себя за то, что слишком долго соображал, когда возможно было еще что-то сделать. Почему я не ухватил, не удержал ее, почему не прокричал «да» чтобы перекрыть ее «нет»? И еще я размышлял о той непостижимой силе, которую ощутил в какой-то миг как откровение, в той комнате у постели — это было похоже на ошеломительную вспышку жара, как будто ты внезапно, ничего не подозревая, резко открыл заслонку печи. Каким-то образом я почувствовал, — хотя у меня нет точных слов, чтобы это толком объяснить, даже себе, — что сам факт этой силы противоречит тому, на что с такой неприязнью указывала моя мама. В ней была какая-то большая правда, перекрывающую всю эту грязь и муть, нищету и пьянство. Она это знала, твердил я себе, и все же помешала мне, так что я потерял это навсегда.
Вот почему я бесился.
Я начал прогуливать уроки и связался с дурной компанией. Я ввязывался в драки и обнаружил, что мне это нравится — вкладывать всю свою силу в удар кулаком и слышать звук, когда он встречает незащищенное тело; не похожий ни на что запах крови, боль в руках, которая на какое-то время заставляет меня забывать о другой боли — внутри.
Однажды мою маму вызвали к директору школы. Она выслушала все молча, а на улице, сев в машину, закрыла лицо ладонями и прошептала — она уже не кричала, так как понимала, что этого я и добиваюсь: «Я больше так не могу. Я признаюсь во всем твоему отцу». Но так и не призналась никогда.
— А твой отец, — задала я вопрос, вспоминая тихого человека, — как он на все это смотрел?
Мы уже дошли до конца пляжа. Позолоченная вода мерно плескалась о выступы черных камней, скорбные трубные звуки, издаваемые тюленями, наполнили воздух. Равен вздохнул и снова заговорил:
— Мы старались, чтобы его не затронула эта безмолвная война между нами. Когда он был дома, мы прилежно старались вести себя приветливо по отношению друг к другу — это был наш молчаливый пакт, единственное, в чем мы действовали сообща, так как оба любили его. Мы нормально разговаривали, улыбались, делали какие-то мелкие дела и даже немного ссорились из-за них, как обычно. Но он все понимал, мы не смогли ввести его в заблуждение. Словно он слышал все невысказанные слова ненависти к ней, которые копились во мне, каждое слово. И они пробивали его сердце и пробивали, как пули, пока не изрешетили его. Каждый день он ходил на работу, но уже с сердцем как решето, из которого в конце концов ушла вся воля к жизни.
Самое грустное было — как он старался сделать нас счастливыми. Он возил нас в особые места на уик-энд, кататься на лодке, смотреть родео во Дворце Быка. Водил в кино. Мы все вместе сидели в его повозке, тесно прижавшись друг к другу: мама в красивом платье — между своими двумя мужчинами, как она нас обычно называла. Люди, попадавшиеся нам на пути, должны были думать, что мы идеальная семейка. Папа шутил, обычно не очень удачно — в шутках он был не силен, — а мы смеялись как безумные, сильнее, чем того стоила шутка, сильнее, чем когда бы то ни было прежде. И так мы ехали в нашей повозке, и она сотрясалась от нашего фальшивого смеха. Папа смотрел на нас, и в глазах его плескалась такая безмерно глубокая печаль, что можно было утонуть. Но как я мог признаться ему в том, что меня мучило, не предав при этом маму? И какой бы гнев я ни таил на нее — я не мог так поступить.
Затем время обернулось против нас.
Я помню этот день как сейчас. Я вернулся из школы, а мама испекла шоколадные пирожные с орехами. Я обожал их. Когда был маленьким, я все время уговаривал ее сделать их. Но в тот день меня это только взъярило: неужели она думает, что может все исправить с помощью горки каких-то пирожных? Я не прикоснулся к ним, хотя умирал от голода, сделал бутерброд, налил молока и поднялся к себе в комнату. Там я жадно набросился на бутерброд, выпил молоко и лег на кровать, полный жалости к самому себе. В доме носился аромат шоколада, и у меня от него сосало под ложечкой. Я не обратил внимания на трезвон телефона. Я думал: лучше мне убежать из дому, пусть они побеспокоятся. Потом я услышал, что она стучится ко мне. Я открыл дверь, готовясь сказать какую-нибудь колкость.
Читать дальше

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)
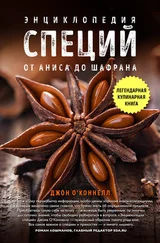






![Лариса Петровичева - Принцесса без короны. Отбор не по правилам [= Принцесса без короны. Неправильный отбор] [litres]](/books/389397/larisa-petrovicheva-princessa-bez-korony-otbor-ne-thumb.webp)


