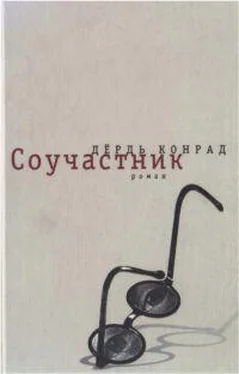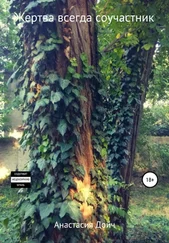13
Когда меня наконец признали антифашистом, я получил бумагу, чтобы поехать по каким-то делам в другой лагерь; вот только зигзагообразная линия фронта пересекала железнодорожную сеть так нелепо, что мне, чтобы попасть на восток, пришлось ехать сначала в другую сторону, на запад. Я попросился на проходящий военный состав; в бумаге моей сообщалось, что я — венгерский коммунист, в связи с чем всем предписывалось оказывать мне содействие в достижении моей цели. Ореол этого моего титула, правда, слегка омрачался моей одежонкой, составленной из жалких остатков венгерской военной униформы. В поезде, перед тем как уснуть, я попросил попутчиков разбудить меня на такой-то станции, но солдаты тоже проспали, и я оказался на фронте. Едва мы подъехали, немцы прорвали позиции русских, резерв был тоже сметен, я растерянно озирался в метели, вокруг свистели пули, я был без оружия и выглядел как подозрительное пугало даже для отступающих русских; фронт прокатился через меня, и я опять оказался у немцев.
Рассудив, что на драные мои башмаки все равно никто не позарится, я спрятал свою драгоценную бумагу с печатью под портянки; выбросить ее я не решился, но рисковать, что ее найдут немцы, тоже не стоило. В пурге какой-то немец собрался было меня пристрелить, но поленился. И вскоре я снова оказался как бы дома, в венгерской штрафной роте; пришлось наскоро придумывать историю об эпилепсии и о том, как я с помутненным сознанием скитался, после очередной атаки, неведомо где. Одному цыгану-ефрейтору показалось, что я вру, и он собрался отдать меня, вместе с другими подозрительными элементами, под расстрел; но в землянке на столе я увидел скрипку и попросил разрешения поиграть перед смертью, он, выпив, расчувствовался, некогда ему сейчас с нами цацкаться, и он велел запереть нас в деревянную хибару. К вечеру часовой с автоматом, перед тем как смениться, шепнул нам, что расстреливать нас ефрейтор уже не хочет, зато послал за бензином и собирается хибару поджечь. Если уж все равно помирать, сказали мы, тут у нас кое-какое добро: зажигалки, часы, лекарства, пускай часовой заберет и отдаст своим. Часовой, жадный, но неосторожный, открыл дверь, просунул руку за вещичками, мы схватили его за рукав, втащили внутрь и оглушили его же автоматом.
Мы крались по опушке леса, как вдруг нас окружили, с выстрелами и криками, чумазые русские подростки в полушубках с длинными рукавами; в плен попал и цыган-ефрейтор, теперь у него уже не было желания нас расстреливать. Меланхолические казаки в заснеженных меховых папахах погнали нас в тыл, целых полчаса они выводили хором первую строчку какой-то песни, кажется, «шла девица через улицу»; пока девица перешла улицу, я успел отморозить себе ноги; мы дергали и тянули друг друга, поднимая со снега; то один, то другой из нас, махнув на все рукой, готов был окончательно погрузиться в младенческий сон. Цыган-ефрейтор заметил, что я разговариваю с солдатами по-русски, показываю им свою записку; он упал передо мной на колени, целовал руки, умолял, чтобы я не отдавал его под расстрел, глаза его от страха стали невероятно широкими, два таких музыкальных народа, цыгане и евреи, должны понимать друг друга, дома у него девятеро детишек бегают босиком по снегу вокруг глинобитной хаты. Бумага моя только разбудила в казаках подозрения: ни один из них понятия не имел, где находится тот лагерь и штаб той дивизии, непонятную бумагу пустили на самокрутку, и я вновь оказался обычным пленным.
Факт тот, что из мартовской метели нас вышло меньше, чем тронулось в путь; в обычной неразберихе мы ездили туда-сюда по одной и той же ветке; я потерял сознание — и очнулся в сиянии весеннего солнца; нас высадили из поезда. Шатаясь, едва держась на ногах, мы построились; если выйдешь из строя — расстрел, объявил старший конвоир — и тут же прострелил одному пленному ногу: тот отбежал в сторону облегчиться. Мы топтались на месте, нам было страшно: этот зверь, судя по всему, шутить не станет. Спустя два часа он подозвал меня и велел перевести остальным пленным: поезд с конвойными сейчас уйдет, за нами придет другой, мы должны терпеливо ждать, хоть и без присмотра, и не дай бог, если мы попытаемся сбежать. Товарищи мои решили, что я что-то не понял или неправильно перевел; но русские в самом деле тут же укатили. Около тысячи пленных без конвоя; в первый момент все бросились кто куда, но потом остановились растерянно. Куда бежать? Назад, к фронту? Или в голодные деревни, где крестьяне еще ох как помнят вчерашнего грабителя с автоматом, уведшего последнюю козу? Мы стояли, бестолково сгрудившись; пускай за нами кто-нибудь явится, наша единственная надежда — конвой. И с облегчением вздохнули, когда, несколько часов спустя, к нам, пыхтя, подкатил другой поезд. Нас повезли в Нижний Тагил; офицер службы безопасности провел в бараке перекличку, я воспользовался этим, рассказал ему историю своего документа и попросил разрешения начать работу по созданию демократической венгерской армии. Он смотрел на меня недоверчиво, как врач, привыкший выслушивать бредовые речи больных, выздоравливающих после тифа; но все-таки записал мои данные и спустя две недели нашел меня, удивленный, что я сказал правду. Нет чтобы горячим щам радоваться, этот воевать опять хочет, — бурчал охранник, старик украинец, но потом добавил, уже мягче: уж такой эти студенты народ, глупые еще, думали много, жили мало, вот и прыгают, суетятся, как блоха в овчине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу