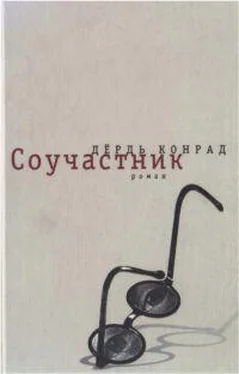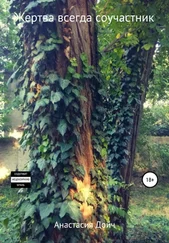О том, что она тоже сидела в лагере — кажется, вплоть до смерти Сталина, — она не говорила никому, кроме меня. В антифашистской школе мы беседовали ночи напролет; однажды, мартовским рассветом, когда я стал расспрашивать ее про мужа, она вдруг расплакалась.
Упав на колени на лоскутный ковер, прижавшись лбом к полу, стуча по полу кулаком, она рыдала каждой клеточкой своего тела. Я лег рядом с ней навзничь, гладил ее седеющие волосы, притянул ее голову себе на грудь. Она укусила мне подбородок; «Не надо, не будь со мной ласковым!» — повторяла она, захлебываясь. Не знаю уж, кто из нас раздевал другого. Словно две загнанных, потрепанных собаками лисицы, сплетя руки и ноги, мы бессильно прислушивались друг к другу на пыльном ковре.
Снаружи донесся размеренный стук каблуков: охранники шли к сторожевым вышкам сменять друг друга. «Наверно, у меня ребенок от тебя будет, — сказала она, доливая горячей воды в чайник с заваркой; и добавила: — В лагере мне больше всего хотелось еще раз забеременеть». Она рассказывала, рассказывала, не в силах остановиться, она замуровывала меня в историю своей жизни. А еще она рассказала, что заключенные женщины добровольно строили не только глинобитные бараки, но и фабрики, где шили военную форму и делали патроны — «для наших, для этих мальчишек»; и она показала в окно, на круглоголового, остриженного наголо солдатика, который напевал что-то, навалившись на поручень сторожевой вышки. «Знаешь, как это здорово: мы, кого всего лишили, кого в одной рубашке выставили в пустыню, снова могли что-то дать партии».
В 1950-м, после того, как меня несколько недель избивали, мне пришлось без отдыха простоять три дня подряд в середине камеры, лицом к двери; затем, немного поспав, еще три дня. Надзиратель следил за мной, каждые десять минут бесшумно отодвигая алюминиевую заслонку на круглом глазке. Если я падал, меня приводили в чувство пинками; я пытался спать стоя, не думая про распухшие щиколотки. Однажды я проснулся и обнаружил, что на меня кто-то смотрит; дверь открылась, вошла моя учительница, которая к этому времени стала полковником госбезопасности.
Посмотрев на меня несколько минут, она вынула из кармана пистолет и положила его на стол, ножки которого, сделанные из железного уголка, были вмурованы в бетон. «Я сейчас выйду», — сказала она и коснулась кончиком пальца моего лица, на котором, как я успел заметить в зеркальцах ее очков, уже опадали желтоватые опухоли. Уходя, она добавила: «Он заряжен».
Редкий акт милосердия, который оказывают только соратникам. Как-никак мы не одну тысячу километров прошли вместе. У меня возникла мысль: что, если взять и застрелить кого-нибудь. Но главного палача, который специализировался на моей мошонке, поблизости не было; а в кого попало — зачем? Ну, а до такой степени идиотизма, чтобы я добровольно участвовал в этой маленькой интимной церемонии, направив дуло пистолета себе в рот, — меня еще не забили. Учительница моя вернулась, забрала, не глянув на меня, пистолет, положила его в карман и вышла.
Мы встретились снова еще через двенадцать лет; она стала распорядительницей официального ритуала на похоронах ветеранов, руководителей партии. Она подравнивала ряды военного оркестра и рабочей гвардии, стоящей с автоматами в почетном карауле. Она подошла ко мне, глаза ее блеснули. «Когда ты не взял пистолет, я поняла, что ты станешь предателем. И ты стал им. Я читаю все, что ты пишешь, каждая твоя статья — скрытая контрреволюция. Однажды ты выскажешь это открыто — и в третий раз попадешь в тюрьму. Оттуда, надеюсь, ты уже никогда не выйдешь. Это я искренне говорю, хотя любила тебя». Я смотрел на седовласую, безумную старуху: с прямой спиной, опираясь на трость, она двинулась к украшенному цветами катафалку, перед которым на бархатной подушечке сверкали награды покойного.
16
В форме советского офицера, хотя и без знаков различия, с мегафоном за спиной я выползаю на нейтральную полосу перед нашими окопами, на такую дистанцию, чтобы меня было слышно стоящим напротив венграм; я рою укрытие для громкоговорителя, а в двадцати метрах подальше, насколько хватает провода, и для себя, и выжидаю, пока начнется небольшая артподготовка с флангов, чтобы охладить горячность моих соотечественников, когда они примутся глушить одинокий голос в ночи. Я ораторствую, прижавшись щекой к земле, предрекаю неминуемое поражение государствам центральной оси, обещаю землю крестьянам, подлинную демократию рабочим, свободу культуры интеллигенции, вознаграждение перебежчикам: надежный плен лучше неопределенных боевых действий, спасайте свою жизнь, другой у вас нет. В обмен я всучиваю им свои мечтания, двуглавую химеру правды и реальности. В общем, если уж быть до конца откровенным, я ведь говорю им то, что и сам считаю правдой, а потому, может быть, говорю не так уж плохо. Мне нравится, что тут, между линиями окопов, из которых нацелено друг на друга заряженное оружие, геройскую смерть я называю трусливой глупостью. В речах моих коммунистические, антифашистские фразы перемешаны с анархистским пацифизмом, направленным против государства и против армии вообще.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу