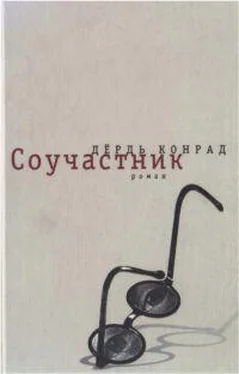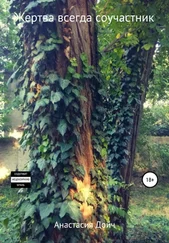«Откуда ты знаешь русский?» — торжествующе спросил он меня на следующий день, войдя в камеру. Учился. В диверсантской школе? Я потерянно молчал. «Говори», — сказал он и дал мне затрещину. Он испытывал ко мне только отвращение: теперь я полностью разоблачен, сотоварищи мои все обо мне рассказали. Я и к партизанам пробрался только затем, чтобы немцев на след навести. Заслуживаю я только пули, но, если во всем признаюсь, меня могли бы использовать для разоблачения других шпионов; и для весомости отвесил мне еще затрещину. «Ну, так что тебе поручили твои хозяева?» С меня было достаточно: я схватил ведро с дерьмом и выплеснул содержимое ему в физиономию. Я считал, что он тут же меня пристрелит, и уже попрощался с жизнью; но он заверещал и выскочил вон: этот жид на меня говно выплеснул! Я удивился: сейчас-то он почему вдруг решил, что я еврей?
Спустя час два солдата отконвоировали меня в кабинет коменданта. За столом сидело несколько офицеров; они спросили, действительно ли я читал «Тихий Дон»? Тогда расскажите содержание; пока я рассказывал, они несколько раз переглядывались и подмигивали друг другу. Потом спросили: «Есть хотите?» «Очень», — ответил я; они налили мне стакан водки, с сожалением сообщив, что сами они уже обедали. Водка была злая, я закашлялся, они очень веселились, глядя на меня. «Видишь, этому тебя в школе диверсантов не обучили». «Вы что думаете, — взорвался я, — если немцы шпиона хотят забросить, они не найдут для этого другой дороги, кроме минного поля?» Комендант и тут стоял на своем: немцы, они такие, они и своих не жалеют. Кем бы я ни оказался, он не намерен держать в своей тюрьме арестанта, который выплескивает парашу в его, коменданта, лицо; пускай меня переводят в лагерь для военнопленных.
Он позвал конвойного с автоматом; в глазах офицеров пряталась злорадная усмешка. Я вытянул вперед руки: пойду только в наручниках. «Идиот, это же больно!» — с фальшивой доброжелательностью сказал комендант. «Больно, — согласился я. — Но зато никто не скажет, что меня застрелили на полпути за попытку к бегству». Офицеры засмеялись: «Еврей! Точно еврей! Вот зараза, догадался-таки!» И мне налили еще водки. За веревку, привязанную к скованным за спиной рукам, охранник, время от времени пиная по щиколоткам, привел меня в соседний лагерь. Там меня сначала не хотели пускать; потом пришел какой-то майор. «Стало быть, это ты — тот еврей, который говно выплеснул коменданту в физиономию?» Я опустил глаза. «А ты почему его не застрелил?» — заорал он на конвойного. «Никак нельзя было», — оправдывался тот, показывая на веревку. «Эх, твой начальничек от лишнего ума тоже не умрет», — съязвил майор. «Вот что, еврей, ты обещаешь, что не станешь мне в морду говно выплескивать?» Я кивнул с серьезным видом; он некоторое время смотрел на меня изучающе, потом освободил проход. «Словом, ты не фашистский шпион?» Я чувствовал себя безмерно уставшим. «Нет, я не фашистский шпион». «Ну, ладно, не шпион — так не шпион. Предположим, что ты не врешь. Видишь, какая грязь кругом, а я вышел тебя встречать. Начальник немецкого лагеря этого бы не сделал!» Он был прав: немец этого бы не сделал.
12
Еще не оглядевшись по-настоящему в лагере, где ключевые должности получали пленные немцы, тяжелыми дубинами наводившие порядок среди балканского сброда, а кухонными поварятами служили пештские евреи, — я схватил сыпной тиф. Всех нас, больных, пять тысяч человек, посадили в поезд. В каждом вагоне сидели на полу по-турецки по восемьдесят человек; в полу вагона отверстие: наружу — для испражнений, внутрь — для хлеба. Так что часовым, которые очень боялись заразиться, не приходилось каждый день, в течение нескольких недель, толкать на станциях тяжелые раздвижные двери. Когда поезд прибыл на место назначения, живых в нем было не более двух-трех сотен; остальные за эту затянувшуюся поездку раз и навсегда вылечились от всех болезней.
От смерти меня уберег рослый труп, который лежал на мне, немного защищая от холода. Рослые солдаты, одетые в белые халаты, с костяным стуком выкидывали из вагонов мерзлые тела, словно бревна из-под циркулярной пилы, и складывали их штабелями вдоль насыпи. Я был уже на верху штабеля, но собрал все силы и поднял руку. «Этот еще живой», — сказал один из солдат и вкатил меня в кузов грузовика. Мощный, как буйвол, русский санитар, подняв мое еще не совсем остывшее, легкое тело, заплакал и потребовал, чтобы мне сделали укол. На мне уже были только рубашка и подштанники; чтобы проще было добраться до вены, рубашку с меня содрали. Машина тронулась; голова моя со стуком моталась из стороны в сторону. Другой русский, считая, должно быть, что жить мне все равно осталось чуть-чуть, освободил меня и от полотняных подштанников; итак, у меня теперь нет ничего, даже от тела остались одни кости; поистине ловкач будет тот, кто сумеет отнять у меня еще что-нибудь. Я смотрел на зимнее, кварцево сияющее небо, на холодное солнце; вот и близится мое окончательное освобождение, лучшего времени, чтоб умереть, и придумать трудно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу