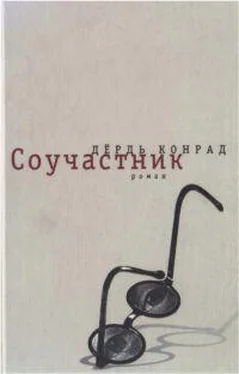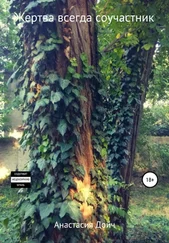Однажды ночью мы наткнулись на венгерский окоп; там как раз ужинали, мы наставили на них автоматы. Они никак не могли понять, откуда мы свалились. Один ефрейтор поднял было крик, мы закололи его, остальных связали. «Если не пойдете с нами, пристрелим»; но никто не захотел к нам присоединиться. «Все равно, как помирать, — ответили нам. — Вам тоже не пройти через мины». Мы все же не стали их убивать. И бросились, сломя голову, бегом через тянувшееся неизвестно куда минное поле, к очевидной гибели, ожидавшей многих из нас или всех — только бы положить конец этому тягостному нескончаемому пути. То здесь, то там гремели взрывы, унося жизни наших товарищей; мы, по молчаливому уговору, даже не оглядывались в ту сторону. Сколько взрывов — столько скорбных смертей; на той стороне подсчитаем, кто обрел себе могилу в дымящейся воронке. А те, у кого еще целы были ноги, плотной цепью продолжали безумный бег. Заговорили пулеметы: сзади — венгерские, впереди — русские. Там еще не сообразили, что мы бежим к ним; мы легли и, размахивая платками, поползли через поле, залитое красным светом осветительных ракет, к русским окопам. Наконец огонь прекратился. Нас было четырнадцать, а до долгожданных окопов добралось всего шестеро. Еще долгие минуты нам пришлось лежать перед ними; один из нас вскочил было — и рухнул от пули, выпущенной немецким снайпером. Наконец нам дали знак: давайте, мол, сюда. Сцепив на затылке руки, счастливые, лежали мы на дне траншеи, под дулами наставленных на нас автоматов. Я прижался лицом к сырой земле, к разодранным корням; революционер наконец нашел свое место в этом мире. А на рассвете русские двинулись в наступление; начнись оно днем раньше, начти товарищи, погибшие ни за что ни про что, сейчас лежали бы, живые, переводя дух, рядом с нами.
11
Мы рассказали нашу историю русскому офицеру, он поставил перед каждым из нас котелок капусты с мясом и, как бы между прочим, спросил, с каким разведывательным заданием мы прибыли. «Левые мы», — объясняли мы; этого он не понял; «Я коммунист», — сказал я, но он не поверил; «Мы евреи», — сказали мы, но и это не произвело на него особого впечатления. Он велел нам спустить штаны; ни один из нас не был обрезан. Нас присоединили к группе пленных; среди них был и один офицер, который бросил где-то свои сапоги и шинель и стоял сейчас, завернувшись в одеяло, чтобы не было видно знаков различия. «Мало приятного оказаться в братской могиле с евреями», — кисло заметил он.
Русский офицер с чистым, словно фарфоровым лбом тихо спросил, знаем ли мы какие-нибудь европейские языки, и стал скучливо перечислять, на каких языках он может с нами общаться. Когда я ответил, что говорю немного по-русски, он вздернул брови: «Вот как! Значит, вас и этому обучали. Ну, до совершенства вам еще далеко, — констатировал он, — Давайте лучше перейдем на французский». Он — искусствовед, от войны он устал, но сейчас, когда фронт двинулся вперед, ему, увы, некогда с нами возиться, ни ему, ни другим. Им надо идти вперед, а насчет нас лично он уверен, что мы обычные диверсанты. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, он, к сожалению, временем не располагает, так что, за неимением другого решения, вынужден поставить нас к стенке. Война — это, как ни печально, «un carnaval des necessites sanglantes», карнавал кровавых необходимостей. Мы стояли, идиотски ухмыляясь, среди сломанных подсолнухов, под дулами пулеметного отделения. Таков порядок вещей: что заслужил, то и получай. Солдаты в меховых шапках, выстроившись перед нами, сердито ворчали: перед расстрелом полагается водка, а где она? За несколько секунд до команды «огонь», щелкая хлыстом, прискакал взлохмаченный казачий офицер; проехав перед расстрельным взводом, приказал: марш на передовую, а пленных — в тыл. Высморкался пальцами, сопли шлепнул наземь, грубо сбил фуражку с головы искусствоведа.
Мы без конвоя побрели в тыл, каждому встречному объясняя, что мы пленные; «Ладно, ладно», — отмахивались они и шли своей дорогой. Подобное равнодушие нас не обижало; но мы мерзли и были голодны. Наконец какой-то сержант пожалел нас и отвел в тюрьму освобожденного от немцев городка. На следующий день комендант тюрьмы спросил, какое у меня звание. «Нет у меня звания», — ответил я. Он прикрикнул, чтобы я не врал: по морде видно, что я офицер. Еврей не может быть офицером, защищался я. Да? Тогда покажи. Показать мне было нечего. «Ах, ты за дурака меня считаешь? Рассказывай по порядку, какие шпионские задания ты получил!» Услышав про партию и про подполье, он только рукой махнул. Где я выучил немецкий язык? Что я знаю о Советском Союзе? О Советском Союзе я, против его ожиданий, знал слишком много, и это лишь усилило его подозрения. В капиталистических странах о Советском Союзе правду не пишут; где я почерпнул свои сведения? В библиотеке? Если я не хочу, чтобы он разговаривал со мной грубо, не стоит морочить ему голову явным враньем. Не нравится ему моя физиономия, сказал он, словно размышляя вслух, я — самый подозрительный из всех пленных. Может, остальные в самом деле хотели перейти на сторону Красной Армии, но меня-то точно немецкая разведка прислала. Всех он уже отправил, кого куда, я один у него остался; в дверях он обернулся еще раз: если до завтра не одумаюсь и не стану говорить правду, он ведь может и грубым стать. Пусть позовут какого-нибудь венгерского коммуниста, попросил я, может, с ним скорее удастся найти общий язык. Услышав это, он разозлился еще больше: может, меню принести, чтобы я сделал заказ, кто меня будет допрашивать? «Товарищ, — сказал я, — есть у тебя одно свойство, которое больше даже, чем твоя осторожность». «Что еще за свойство?» — спросил он подозрительно. «Глупость», — ответил я безнадежно. Замечание это его немного смутило, но сильнее любить он меня не стал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу