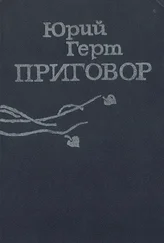Могила оказалась еще не готовой; нам сказали, что могила еще не готова, и мы опустили крышку гроба па землю. Рядом на плиту из цемента сложили свой инструмент оркестранты, я узнал одного из них — Васю-милиционера, он играл «Голубку» в тот вечер, когда я встретил в ресторане Машеньку. Машеньку и Олега...
Мы подошли к продолговатой яме, в которой копошились двое рабочих с лопатами и ломами, Наверное, им пришлось долго раздалбливать верхний, промерзший за зиму слой грунта, по работа шла теперь споро, только иногда ломы звякали, натыкаясь на камень. Могилы вокруг подступали так плотно, что я все время ожидал — вместо камня они выбросят на кучу земли желтую, не успевшую сгнить кость.
— Она все-таки нашла выход...
Рядом со мной стоял Сашка Коломийцев. Его глаза под выпуклыми стеклами очков были красными и казались большими, выпученными, а голос прозвучал испуганно и глухо.
Не знаю, почему, но мне сделалось вдруг жаль Коломийцева. Вот именно: не ее, Машу, а Коломийцева и всех нас, кто пришел сюда, сделалось мне вдруг жаль. Сам не знаю почему.
Впрочем, я тут же забыл о Коломийцеве, и спустя мгновение все представилось мне утратившим объемы, плоским, отдельным — как обрезки разрезанной ножницами картинки, перемешанные между собой,— люди, рассыпавшиеся по кладбищу, комья земли, плотная синева неба, каменные плиты, чириканье воробьев — все было бессвязно и несоединимо с остановившейся в отдалении машиной, с тем, что находилось в ее кузове, с дощатым крашеным ящиком, и то, что было в нем, не имело отношения ни к чему этому, ни к ней самой, ни ко мне.
Я отошел туда, где лежали медные трубы, где лежала прислоненная к дереву крышка гроба. Я расслышал, как Гошин сказал:
— Она была нашей надеждой... При ее способностях... Если бы не этот несчастный случай...
Несчастный случай... Он говорил это невысокой женщине в черном, ее матери.
Помню ее лицо, лицо сельской учительницы, строгое, с поджатыми в ниточку губами,— отменно держалась она все время, все время — до самого кладбища, и это ее спокойствие казалось неестественным, напускным, «для людей». Но когда гроб осторожно опускали в могилу — так бережно и осторожно, как будто это и было самым важным — бережно поставить гроб на дно могилы,— как тогда она закричала вдруг. Страшно, по-звериному закричала, заголосила, и тут как будто все качнулось, вздрогнув,— и деревья, и земля,— таким глубинным был этот крик, этот вопль. Ее с силой оттаскивали от осыпающегося края ямы Варвара Николаевна и Гошин. Однако мне и этот крик показался ненужным, фальшивым, и слезы, и рыдания, раздававшиеся вокруг — тоже. Я смотрел, как могила заполняется рыхлой землей, поднимающейся, вспухающей как бы снизу, и еще плохо понимал, что теперь все кончилось. Что уже все кончилось — что-то мешало мне это понять, даже когда земля поравнялась с краями, даже когда над могилой вырос невысокий холмик, и на него сложили венки — от факультета, от курса, от группы — венки, сплетенные из еловых лап и перевитые черными лентами и бумажными цветами. Даже тогда я еще как-то не совсем понимал, что теперь все кончилось, до самого конца кончилось,— я только подумал механически, что над холмиком через месяц зазеленеет трава, земля осядет, бумажные цветы пожухнут — все будет похоже на сотни других могил.
Мы уходили последними, по растоптанной тропке, по клейкой, глинистой земле, ноги наши оделись в огромные черные лапти, но мы не счищали эту землю, пока не вышли на дорожку, ведущую к воротам — она была выложена булыжником и земля уже сама собой отставала, отлипала от наших подошв.
И тут я подумал, что вот сейчас мы дойдем до ворот и даже этой земли не унесем с собой, даже земли.
Но как же мы уходим, а она остается? А малая хотя бы часть того, что было — Маша — остается? Среди чужих, незнакомых памятников с мертвыми надписями? Только тут я сообразил, что она-то ведь — остается. Навсегда остается. В земле. В глине. Одна.
Одна...
Я повернулся и пошел обратно. Сергей меня окликнул. Я ускорил шаги. Я боялся, что за мной пойдут, но за мной никто не пошел. Я был рад этому. Я был очень этому рад, и тому, что так тихо, и никого нет. Я шел, бежал почти, и откуда-то появилась во мне отчетливая уверенность, что сейчас я ее увижу. Я понимал, что это невозможно, и все-таки чувствовал, что сейчас ее увижу. На том самом месте. Сейчас. Вот-вот случится чудо, и я ее увижу.
Но я увидел только холмик, бугорок рыхлой, сырой земли.
Я ее не увидел, но она была здесь. Она была здесь. И нас было только двое — она и я. Я прижался грудью к бугорку земли, прижался щеками к острым комьям глины, они царапали мне кожу, как стекло, и это было хорошо, так я лучше чувствовал, что она — здесь.
Читать дальше