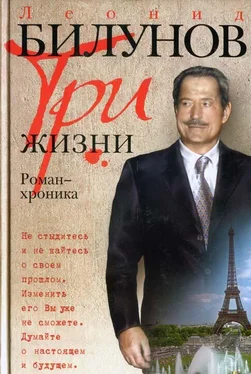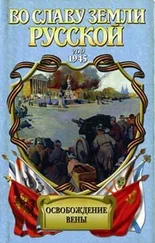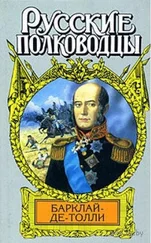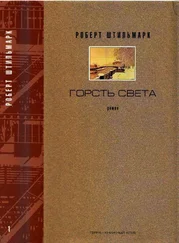— Кстати, о Наполеоне, — вспомнил вдруг Петр Петрович. — Ты знаешь, что Наполеон помогал всем, кто когда-либо сделал ему добро? Однажды его учитель математики написал из Гренобля, где Наполеон, как известно, учился. Старый, больной, без пенсии, он просил какой-нибудь работы. Наполеон велел привезти его в Париж, обласкал, дал пенсию, назначил пожизненным смотрителем какого-то замка. И так было со всеми.
— Разве он не читал Макиавелли? — спросил я. О Макиавелли и его книге «Князь» Петр Петрович как-то рассказывал мне целую неделю. — Уничтожай всех, кто помог тебе прийти к власти?
— Читал, — ответил Петр Петрович. — Но у него были свои правила. У него были принципы…
Мы проговорили так до самого вечера, окруженные книгами. Вокруг нас до самого потолка высились стеллажи, они уходили вперед, как две стены, как два ряда домов, я следил, как они удаляются, раздвигаются, словно подзорная труба, вот уже это и не стеллажи, а улица, длинная, почти бесконечная, переходящая вдали в два ряда столбов, а между столбами натянуты какие-то провода — нет, это не провода, это колючая — почему на ней какие-то колючки? — проволока. Я хочу разглядеть конец улицы, напрягаю взгляд, но не могу, не вижу, поднимаю голову — и просыпаюсь.
Я лежу дома, в своей кровати. В окно смотрит яркое утреннее солнце. Матери нет — наверное, ушла на базар. Я не заметил, как пришел вчера домой, как разделся, лег и заснул…
За окном было ясное и беззаботное воскресное утро.
Утро воскресенья, круто изменившего мою жизнь.
Я почистил зубы, оделся и вышел на улицу.
Весна в том году подступила к городу незаметно и тут же стала превращаться в горячее лето. В семь утра солнце уже начинало серьезно припекать макушку. Я всегда любил мой город ранним воскресным утром. На улицах пусто, в домах не заметно никакого движения, лишь у кого-то в окне играет бодрое радио и сам с собой разговаривает утренний диктор из центра. Перекрестки залиты нежным солнечным светом, а в боковых переулках еще стоит ночная прохлада, и редкий прохожий пересекает ее, набирая свежести под легкую рубашку.
В тот день даже утро меня не радовало. Я направился в парк, но там меня встретила сырость и ночной болотный запах непрогретых кустов. На узких тропинках возле земли плавал слоистый, как творог, ночной туман, скамейки липли к брюкам и, когда я вставал, отдавали их мне с неохотой.
Я двинулся к старому городу.
Все магазины были закрыты. Из-за поворота со скрежетом появился трамвай и начал втягиваться в улицу, осыпая первые этажи острыми синими искрами. Я вскочил на подножку, проехал три остановки и спрыгнул на ходу против булочной. Там уже вовсю торговали хлебом и булками; полусонные соседки, шаркая домашними тапочками, одна за другой поднимались по ступенькам, наполняли буханками глубокие семейные сумки и, немного поговорив о погоде, неспешно расходились будить своих домашних.
Я купил батон, сел напротив булочной на скамейку и тут же съел его без остатка всухомятку. Хотелось пить. Рынок был недалеко, а там должна работать палатка с газированной водой.
На рынке уже появился народ, но палатку еще не открывали. Только на углу стояла длинная очередь небритых, полусонных, дрожащих от похмельного озноба мужиков. Один был в длинных застиранных сиреневых кальсонах, другой обут на босу ногу в галоши, размера на три больше, чем его нога. Там начинали отпускать пиво.
— Мужики, — сказал, появляясь в окошке ларька, толстомордый продавец, — учтите: пиво еще не разбавлял, буду недоливать!
Очередь молчала и покорно ждала.
Я сделал глубокий вдох, чтобы подавить жажду, и отправился бродить по городу. Пива я тогда совсем не пил.
Солнце поднималось все выше. Улица постепенно оживлялась. Стали попадаться мужчины с пиджаками через руку, утирающие красную потную шею платком. Женщины, вышедшие из дому еще до жары, не знали, что с себя снять, чтобы остаться все-таки в приличном виде. Одна детвора гонялась за мячом как ни в чем не бывало, не чувствуя горячего полуденного зноя.
Горло мое иссушала жажда, сердце стучало учащенно, я что угодно отдал бы за стакан холодной воды. Я не мог забыть о вчерашнем происшествии и не знал, что жгло меня сильнее: жаркий майский день или невыносимая обида отверженного.
Где-то около полудня я наткнулся на площади на бочку с квасом. Толстая тетка в белом халате, подпоясанная фартуком, сидела перед кранами на легком венском стуле, словно вынесенном из гостиной ближайшего дома. Она неторопливо наливала кружку за кружкой, цедила холодный пенистый квас в принесенные бидоны, кувшины, кастрюли. Люди стояли друг за другом, окружая белую цистерну широким кольцом, и старались не слишком приближаться к распаренным горячим соседям. Не вынимая руки из кармана, я пересчитал на ощупь мелочь: на пару кружек не хватало. Я встал в конец.
Читать дальше