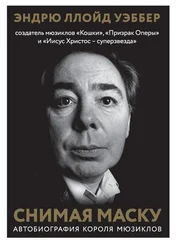Об этом разговоре я не вспоминала много лет. Вероятно, подсознательно стерла его из памяти, как и многое другое. А сейчас задумалась: неужели в тот момент, когда мистер Уоттс отвернулся, у него уже созрело решение покинуть остров без меня? Сейчас, по прошествии многих лет, мне кажется, что я тогда ощутила разлуку, последнюю границу. Или правильнее будет сказать не «граница», а «занавес». Между мистером Уоттсом и его самой восторженной почитательницей опустился занавес. Мистеру Уоттсу светило двигаться дальше, а мне — разве что похоронить себя там, где маячат фигуры из прошлого. Мне было предначертано стать крошечной песчинкой на большом острове, а ему — уплыть на лодке мистера Масои из одной жизни в другую. Я не сомневалась, что так оно и случится, — и вполне могло бы случиться, ведь меня постигла именно такая судьба. Уехав, я никогда больше не оглядывалась назад.
Потом я долго ехала на поезде, возвращаясь на станцию «Лондонский мост». Меня охватила необъяснимая подавленность. Как будто я внезапно вернулась в свое прошлое «я». И вернулась в ту самую скорбь, которую впоследствии смыло паводком. Я смотрела в вагонное окно. Даже молодая, нежная зелень весны не могла развеять мое уныние. Даже проводник, распевающий песни, не вызвал улыбки.
Выйдя со станции, я потащилась вверх по ступеням, на тротуар. Такая усталость. Откуда она? Сколько раз я взбегала по крутому горному склону. Могут ли с этим сравниться несколько пролетов грязной лестницы с шеренгами нищих и цыганят, у которых глазенки сновали быстрее мальков?
Нога за ногу я брела домой и жалела, что больше мне пойти некуда. С трудом преодолела покрытые ковровой дорожкой ступеньки пансионата и, открыв дверь своей комнаты, немного постояла в дверях, не в силах переступить порог.
Здесь хранились главные ценности и атрибуты моей жизни: фотография Диккенса в рамке и увеличенное до размеров плаката объявление о выпуске романа «Большие надежды» отдельным изданием. Тут был мой письменный стол, а на нем — кипа бумаг, которая считалась моей диссертацией. Она терпеливо ждала, когда же я вернусь из Грейвсенда с новыми материалами. Так и мистер Уоттс в свое время ждал над своей секретной тетрадкой, когда же мы припомним новые фрагменты. Увы, новыми материалами разжиться не удалось. Из этой поездки я привезла глубоко засевшую тяжесть, которая, нагрянув как ненастье, пронизывала меня до костей.
Я не придумала ничего лучше, как лечь в постель. И не вставать.
Шесть дней я выбиралась из кровати только для того, чтобы сделать себе чашку чая, поджарить яичницу или полежать в хлипкой ванне, разглядывая трещины на потолке. Дни, будто мне в наказание, тянулись медленно, часы давили сверху, по комнате растекалась тоска.
Лежа в постели, я слушала, как под окнами тормозят автобусы. Ловила шуршанье шин на мокром асфальте. Представляла, как соседка снизу собирается на работу. Вот у нее включился душ, вот пронзительно засвистел чайник. Я ждала, когда послышатся ее шаги на дорожке под моим окном, а когда этот непродолжительный контакт с внешним миром прекращался, я закрывала глаза и умоляла стены вернуть меня в сон.
Врачи сказали бы, что у меня депрессия. Теперь я стала более начитанной в этом вопросе и понимаю, что так оно и было. Но когда это состояние зажимает тебя в тиски, оно не называет себя по имени. Нет. Происходит следующее: ты сидишь в темной-темной пещере и ждешь. Если повезет, туда проникнет тонкая полоска света, а если сказочно повезет, то эта полоска будет постепенно расширяться, и в один прекрасный день пещера тебя отпустит, и ты выйдешь на солнце и на свободу. Со мной так и произошло.
Однажды утром я проснулась и сбросила одеяло. На этот раз я встала раньше, чем соседка снизу. Прошла к своему столу. У меня было сильное желание сделать то, что я слишком долго откладывала. Взяв титульный лист диссертации на тему «Образы сирот в творчестве Диккенса», я перевернула его и на обороте написала: «Все называли его Лупоглаз».
С того дня прошло полгода. Все остальное было написано в этот промежуток времени. Я старалась передавать события так, как они происходили со мной и с моей мамой у нас на острове. Не пыталась ничего приукрашивать. Считается, что так писал Диккенс. Читателям полюбились его персонажи. Но во мне, наверное, что-то переменилось. С возрастом я разлюбила его героев. Они слишком очевидны, они гротескны. Но снимите с них маски — и вы увидите, как толковал их создатель человеческую душу, страдания и суетное тщеславие. Когда я сообщила отцу о смерти мамы, он не выдержал и разрыдался. Тогда до меня дошло, что какие-то эпизоды могут быть приукрашенными. Но только не в литературе, а в жизни.
Читать дальше