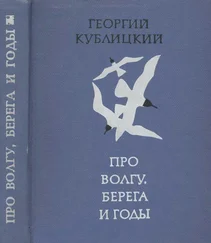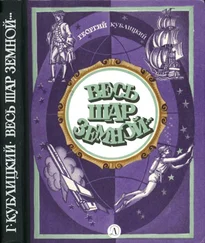Помню, первые дни меня сбивало ощущение несоответствия живых зрительных впечатлений и хорошо запомнившихся статистических данных об этой богатой и бедной стране. Богатство бросалось в глаза, бедность куда-то стыдливо пряталась. Я еще не знал тогда, что даже американцу требуются усилия хотя бы для того, чтобы просто обнаружить массы бедняков. Парадокс?
Но вот что пишет Майкл Харрингтон, журналист и социолог, деятель католических благотворительных организаций: Америка нищеты «замаскирована сегодня так, как никогда раньше. Миллионы ее обитателей социально невидимы для остальных американцев».
Тем менее они видимы иностранцу, недолгому гостю Америки. И дело не только в том, что нищета гнездится в стороне от столбовых туристских дорог. Главное — в особенностях современной американской жизни, надежно изолирующих и маскирующих бедность. Так, белая рубашка и костюм стандартномодного покроя здесь далеко еще не признак и не мерка благосостояния. «В Америке нищета одета лучше, чем где бы то ни было в мире… В Соединенных Штатах гораздо доступнее быть прилично одетым, чем иметь сносные жилищные условия, питание и медицинскую помощь. Даже те, кто зарабатывает гроши, могут быть приняты за людей преуспевающих».
Харрингтон считает, что внутри прославляемой и с напыщенным бахвальством рекламируемой страны 40–50 миллионов человек бедствуют, постепенно исчезая из поля зрения нации и становясь все более невесомыми в политическом смысле. Это и есть Другая Америка.
Не знаю, является ли Харрингтон автором очень емкого определения: «культура нищеты». Во всяком случае, он широко пользуется этим термином. «Нищета в Соединенных Штатах, — пишет он, — не что иное, «как культура, институт, образ жизни». Отсюда ее устойчивость. «Культура нищеты» цепко держит людей в заколдованном круге, лишая их возможностей роста и прогресса. Родившийся бедным и умирает бедняком. Разговоры о равных возможностях — одно, статистические данные и непредвзятые жизненные наблюдения — другое.
Я прочел честную, убедительную книгу Харрингтона после поездок за океан, уже успев, как мне казалось, кое-что повидать и понять. И все же при чтении часто ловил себя на мысли: «Черт возьми, да как же мне это не бросилось в глаза? Почему я не заметил этого?»
Наверное, прежде всего потому, что, как говорит Харрингтон, Другая Америка бедна не в том смысле, который подразумевается в разговоре об отсталых странах, где люди рады сухой корке, как спасению от голодной смерти.
Я видел в 1958 году окраины Багдада, район так называемых сарифов — хижин из битых кирпичей, пальмовых листьев, кусков жести, скрепленных глиной картонных ящиков. Бессознательно я ожидал увидеть нечто подобное и в Нью-Йорке. А знакомый привел меня однажды на улицу, где стояли вполне приличные каменные дома — правда, довольно угрюмые.
— И это трущобы? — не поверил я.
— Подожди, присмотрись получше, — ответил знакомый.
Мы неторопливо пошли по улице. Из-за угла с воем выскочила полицейская машина. И посмотрели бы вы, сколько физиономий, то испуганных, то выражающих любопытство, появилось вдруг в окнах! По четыре-пять в каждом! Стало очевидно, как плотно, туго набиты эти каменные ящики, разгороженные внутри на крохотные клетки.
И еще один урок того, насколько трудно проникнуть в суть вещей приезжему издалека и наблюдающему чужую жизнь, так сказать, снаружи, а не изнутри, дал мне тот же бессонный квартал, который я с самоуверенностью знатока показывал Д.
Замотавшись, мы с ним так и не побывали там снова. Уже незадолго до отъезда из Нью-Йорка, забежав прощаться в отделение ТАСС, я вскользь упомянул о нашем походе в квартал на Сорок второй улице.
— Постойте, — сказал один из всезнающих тассовских журналистов, — а ведь о вашей этой улице с полгода назад печаталась серия очерков. Именно о квартале, который вас заинтересовал. Я вам поищу.
Очерков было пять. Я прочел их с чувством стыда за свое невольное верхоглядство. Я-то с видом старожила показывал все новичку! А на поверку выходило, что о нравах бессонного квартала мне было известно не больше, чем становится известно пассажиру о нравах станционных служащих после пятнадцатиминутной стоянки поезда.
Кроме жизни видимой, говорилось в очерках, есть еще жизнь невидимая, которая не всегда доступна глазу наблюдательного соотечественника, не говоря уже об иностранце. «Лоствилль», потерянное место, рана на лице города — так американский журналист назвал неоновые дебри квартала на Сорок второй улице.
Читать дальше
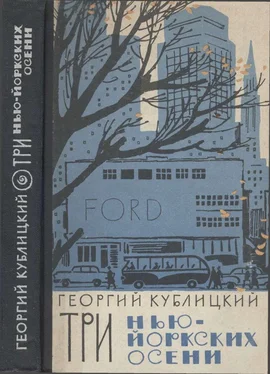





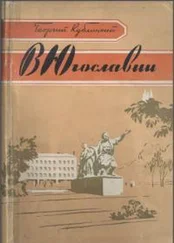

![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/404529/georgij-kublickij-tajmyr-nyu-thumb.webp)