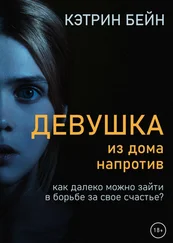«Губы она накрасила в последнюю очередь. Забавно: помада вечно куда-то девается первой, еще и раздеться не успеешь. Остается то на мужских губах, то на щеке, а порой даже на белом крахмальном воротничке. Впрочем, как правило, — ну, в половине случаев, не меньше, — помада уходит совсем в другое место: на отлично изученную, превосходно освоенную территорию. Остается ярко-красным, добавляющим мужественности ободком на мужском члене».
Закончив, Питер откинулся на спинку кресла, глядя в экран, ожидая, что случится дальше.
Однако ничего не происходило.
Всего-навсего слова на странице. Его собственные слова. Она их не сможет у него отнять.
Снова подавшись к столу, он принялся за второй абзац — тот, что начинался с ее имени, «Анжела».
Нажал клавишу А.
На экране ничего не появилось.
Питер еще раз ударил, сильнее.
По-прежнему пустая строка.
Снова ударил — и снова, и снова, и снова.
Ни-че-го.
Заорав, Питер схватил клавиатуру, ахнул ею о стол. Прижал клавишу А пальцем и долго не отпускал. Затем ткнул ее со всей силы.
На экране монитора не родилось ни точки, ни палочки.
Он сидел перед компьютером разъяренный и одновременно напуганный. Внезапно кровь отхлынула от лица. Питер ощутил себя больным, потерянным, одиноким — когда набранные пять предложений, пять фраз, что он когда-то написал, а после бесконечно переделывал, пока они не начали ему сниться, — когда они исчезли с экрана.
Буква за буквой.
Может, и нет на свете выдуманных историй? Все, о чем ни напишут писатели, — правда? Примерно так думала Росси, когда вышла из дома, где жила Люсинда, и ответила на вызов по мобильному телефону.
— Росси, — проговорила она негромко, по-прежнему размышляя о том, в чем же мы так заблуждаемся.
Разве самые распущенные, самые жестокие из людей — не отражение всего общества в целом? До каких пределов дойдут люди, ставя свои удовольствия выше приличий и общественных норм поведения? Когда и на чем они остановятся?
Как же глубоко мы все заблуждаемся…
К насущным делам ее вернул вопрос, который задал собеседник. И прозвучавшее имя — то самое, что следовало ожидать.
Имя человека, бывшего в списке у Росси главным подозреваемым.
— Хорошо, еду к вам, — сказала детектив. — А что? Услышав ответ, она не сдержала проклятия. И страшно захотелось курить.
Это была зачистка.
Или очищение огнем.
Уничтожить всякое напоминание о прошлой жизни, всякую память о нем значило уничтожить саму эту жизнь и — главное — его.
Сначала — то, с чем разделаться проще. Изодрать в клочья вываленную из шкафа дорогую одежду. Ту, что создана вовсе не для удобства, ту, что ей даже и не нравилась вовсе. Тряпки, призванные завлекать, обольщать, удовлетворять фантазии, которых она порой решительно не понимала. Прежде это не имело значения, одежда была частью ее роли. Анжела вечно играла роль — ублажала других. До исполнения ее собственных желаний дело не доходило. Никогда.
Треск рвущейся ткани усиливал ее ярость. Сколько всяческих тонкостей — разные пуговки, застежки, «молнии». Известно, для чего они существуют. Все это расстегивается, открывает, делает доступным тело. Анжела буквально ощутила прикосновения чужих жадных рук. Сколько этих чертовых рук ее лапали? Она буквально чуяла запах мужского пота, в ушах звучали стоны, вскрики, сопение.
Она рвала одежду по швам, раздирала ее на куски. Шмотки эти шились для того, чтоб их носили с удовольствием, любили: не для ненависти. Анжела рвала их, точно ребенок, увлекшийся делом разрушения. Как рвала одежду каждый раз. В последнее время — всякий раз, когда уже не сама принимала решения. Впрочем, было ли это хоть когда-нибудь в ее воле? Да, поначалу ей хотелось так думать. Ей нужно было так думать. Она не могла позволить себе быть до такой степени жертвой. Трогательной и жалкой. И оправдание, что она была всего лишь ребенком, — не оправдание, на самом-то деле. Она ответила на то проклятое объявление. Ей нравились деньги, и ей нравился секс.
От мысли, что когда-то ей нравился секс, потекли слезы.
— К черту! — выкрикнула она пронзительно.
Схватив ножницы, она заработала еще быстрее; ножницы щелкали, нитки трещали. Каждую вскипающую слезу Анжела пыталась прогнать раздраженной гримасой. Деньги, переходящие из рук в руки, оплата, обмен, шило на мыло, чем дальше, тем хуже, да как же она так изломала свою жизнь?
Она принялась срывать со стен картины, вывернула ящики ночного столика, где хранила свои драгоценности — сверкающие безделушки из золота и бриллиантов, которые надо было носить в компании тех мужчин. Подарки. Это все ей дарили в обмен на удовольствия, которые она доставляла.
Читать дальше
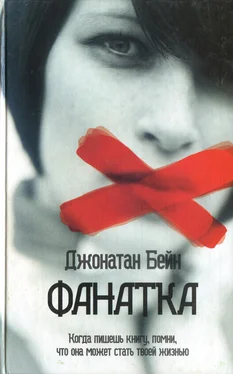



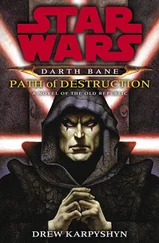


![Эмили Бейн Мерфи - Исчезновения [litres]](/books/409370/emili-bejn-merfi-ischeznoveniya-litres-thumb.webp)