Я побрел по Доротеергассе к Грабену и остановился выпить Kaffee mit Schlagobers в «Гавелке». За соседним столиком мужчина с бородой говорил молоденькой девушке (моложе его) о смерти фигуративной живописи; он описывал определенные картины, с которых и началась смерть всего жанра. Я не знал этих картин. Я подумал о Шиле и Климте, работы которых Фрэнк мне показывал в Альбертине и в Верхнем Бельведере. Хотелось бы мне, чтобы Шиле и Климт могли поговорить с этим мужчиной, но мужчина уже перешел к смерти рифм и ритма в поэзии; и опять я не знал стихотворения, о котором шла речь. А когда он перешел к романам, то мне захотелось побыстрей расплатиться и уйти. Мой официант был занят, поэтому мне пришлось выслушать о смерти фабулы и персонажей. Среди множества смертей, которые описывал этот мужчина, была и смерть сострадания. Я уже начал чувствовать, как внутри меня умирает сострадание, когда к моему столику подошел официант. Затем к смерти была приговорена демократия, ее смерть пришла раньше, чем официант сумел отсчитать мне сдачу. С социализмом было покончено быстрее, чем я сообразил, сколько давать чаевых. Я уставился на мужчину с бородой и почувствовал себя так, словно поднимаю штангу; если радикалы хотят взорвать оперу, им следует выбрать вечер, когда там будет только этот бородач. Кажется, я нашел другого водителя вместо Фельгебурт.
— Троцкий, — внезапно выпалила девушка так, как говорят «спасибо».
— Троцкий? — сказал я, склоняясь над их столом; это был маленький квадратный столик.
В те дни я занимался с гантелями, по семьдесят пять фунтов каждая. Столик был намного легче, поэтому я аккуратно взял его одной рукой и поднял над головой — так официанты носят подносы.
— Ну, а вот старый добрый Троцкий… — сказал я. — «Если вы хотите легкой жизни, — сказал старый добрый Троцкий, — вы ошиблись столетием». Думаете, это правда? — спросил я мужчину с бородой.
Он ничего не ответил, но девушка подтолкнула его локтем, и он слегка оживился.
— Я думаю, это верно, — сказала девушка.
— Конечно, это верно, — сказал я.
Я заметил, что официант внимательно следит за тем, как подрагивают чашки и пепельница на столе у меня над головой, но я был не Айова Боб; блины теперь не соскакивали с моей штанги, когда я ее поднимал, — никогда больше не соскакивали. Не то что у Айовы Боба.
— Троцкий был убит ледорубом, — мрачно сказал бородатый парень, стараясь оставаться невозмутимым.
— Но он не умер, правда? — сказал я с болезненной улыбкой. — Ничто по-настоящему не умирает, — сказал я. — Ничто сказанное им не умерло, — сказал я. — Картины, которые мы до сих пор можем видеть, не умерли, — сказал я. — Герои в книгах не умирают, когда мы заканчиваем о них читать.
Бородач уставился на то место, где следовало стоять его столу. На самом деле он вел себя вполне достойно, а я был в дурном настроении и потому несправедлив; я вел себя, как обычный задира, и мне стало стыдно. Я поставил стол на место; ни капли из чашек не пролилось.
— Я поняла, что вы имели в виду, — крикнула девушка мне вслед, когда я уже уходил.
Но я знал, что я не смогу никого сохранить в живых, никогда; ни тех людей в опере, потому что между ними определенно будет сидеть та тень, которую мы с Фрэнком видели в машине между Эрнстом и Арбайтером, — эта животная тень смерти, этот механический медведь, химическая голова собаки, электрический заряд печали. И что бы там ни говорил Троцкий, он мертв; мать, Эгг и Айова Боб тоже мертвы, несмотря на все то, что они говорили, независимо от того, что они для нас значили. Я вышел на Грабен, чувствуя себя все больше и больше похожим на Фрэнка; надо мной смыкалась пучина нигилизма, я переставал владеть собой. Это очень плохо, когда тяжелоатлет чувствует, что он перестает владеть собой.
Первая проститутка, которая попалась мне навстречу, была не нашей, но я видел ее прежде, в кафе «Моватт».
— Guten Abend, — сказала она мне.
— Иди ты на хер, — ответил я ей.
— Сам туда иди, — сказала она мне; для этого она достаточно хорошо знала английский, и я почувствовал к себе отвращение.
Я снова начал использовать непристойные выражения. Я нарушил обещание, данное матери. Это был первый и последний раз, когда я его нарушил. Мне было двадцать два года — и я расплакался. Я свернул на Шпигельгассе. Там тоже стояли проститутки, но это опять-таки были не наши проститутки, поэтому я не стал ничего предпринимать. Когда они говорили «Guten Abend», я тоже говорил «Guten Abend». Я не отвечал на другие слова, которые они посылали мне вслед. Пересекая Новый Рынок, я чувствовал пустоты в телах Габсбургов, лежащих в могилах. Меня окликнула еще одна проститутка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
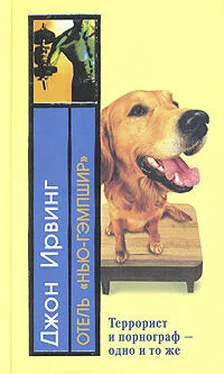


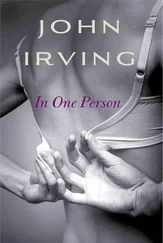


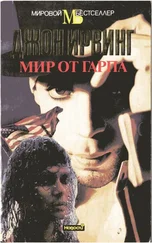

![Джон Ирвинг - Viename asmenyje [calibre]](/books/384315/dzhon-irving-viename-asmenyje-calibre-thumb.webp)
![Джон Ирвинг - Paskutinė naktis Tvisted Riveryje [calibre]](/books/384317/dzhon-irving-paskutine-naktis-tvisted-riveryje-cal-thumb.webp)
![Джон Ирвинг - Pasaulis pagal Garpą [calibre]](/books/384318/dzhon-irving-pasaulis-pagal-garpĄ-calibre-thumb.webp)
![Джон Ирвинг - Дорога тайн [litres]](/books/395406/dzhon-irving-doroga-tajn-litres-thumb.webp)
