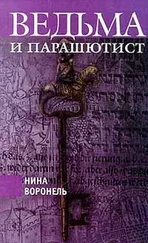Она взяла полный на три четверти граненый стакан, глянула на просвет и разом, без передышки, опрокинула содержимое в рот. Горло обожгло, в груди взрывно полыхнуло огнем, все стало вдруг легко и безразлично, тем более, она уже знала — никуда он сегодня не уйдет.
— Никуда ты не пойдешь ни завтра, ни послезавтра! Чтоб я тебя рядом с ней больше не видела, ясно?
И, присев на край кровати, стала стаскивать промокшие сапоги. На него она больше не смотрела, только слышала, как он выпил, стукнул стаканом о стол, звякнул бутылкой о край стакана, опять выпил, хрустнул капустой. Она сбросила платье, не стесняясь, прямо при нем стянула лифчик и трико, натянула ночную сорочку и рухнула на постель.
Накрылась с головой одеялом, закрыла глаза и тут же поплыла, полетела, закружилась, затягиваемая в звенящую и булькающую воронку. Хотела вырваться, взмахнуть рукой, за что-нибудь ухватиться, но не смогла: все тело сковало слабостью, руки-ноги свело, даже крикнуть не было сил. А где-то рядом шуршал, грохотал сапогами Федор, позвякивал пряжкой брючного ремня, грузно ворочался у края кровати, сопел — похоже, стаскивал носки.
Лида на миг забылась, провалилась в никуда и тут же очнулась, почувствовав на животе тяжесть его колена. Она попыталась отстраниться — он не прикасался к ней с того самого распроклятого дня. Колено нажало посильней и поползло вниз, настойчиво, протискиваясь меж ее туго стиснутых ног, а рука тем временем принялась подтягивать вверх сбившийся подол ее сорочки. Ахнув, она вырвалась, отшатнулась и замахнулась на него свободной рукой, но он перехватил ее руку и стал искать губами сосок в вырезе сорочки. Она вмиг протрезвела, опять попробовала оттолкнуть его и прошептала ненавистно:
— Уйди от меня, окаянный. Расскажи лучше, как ты с Анькой это делал.
Он дохнул на нее перегаром, еще раз нажал коленом, неуклонно продвигаясь вперед, и пробормотал:
— Да чего там рассказывать?
Ее опять начала бить дрожь, она вцепилась в его плечо и затрясла:
— Нет, ты расскажи, расскажи, с чего это у вас началось? Когда это у вас началось?
— Весной.
— Когда весной?
— Число, что ли, сказать? Так я не помню.
Она задыхалась от странного ей самой любопытства, от волнения при мысли о нем и Аньке, от колена его с медленным упорством ползущего вверх, от сладости своего сопротивления и от неотвратимости сдачи.
— Ну, так как это у вас было?
Ее возбуждение передалось уже ему, он нашел наконец сосок, потрогал зубами, прижал щекой и заговорил:
— Ну... я пришел после ночной, думал — дома нет никого, а она в ванной мылась. Дверь не заперла, я пошел руки помыть, вошел и вижу — она под душем стоит... титечки такие маленькие, кругленькие. Стоит и на меня смотрит. Ни слова не говорит...
Он замолк и сосредоточился на ее сорочке, которая ему мешала. Она нашла в себе силы вырваться, одернуть сорочку, обернуть вокруг колен. Ей необходимо было услышать, что случилось дальше.
— Ну?
Он опять потянулся к ней, опять начала маневр с коленом, но не тут-то было — она вся напряглась, сжалась в комок, закаменела, и он понял: если не расскажет, ничего у него не выйдет.
— Смотрит, значит, и вроде улыбается и даже не пробует прикрыться. Хоть рукой бы заслонилась, что ли... А она и не думает, только смотрит. И я тоже, как дурак, стою и смотрю.
Он замолчал — видно, соображал, стоит рассказывать дальше или нет. Но она уже знала, что не даст ему выкрутиться, не даст увильнуть — он расскажет ей все, до мельчайшей детали. Она не понимала точно, зачем ей это нужно, но чувствовала, что должна услышать эту историю от начала до конца и только после этого решить, как ей жить дальше и жить ли вообще. Эта боль, эта мука, этот ужас, которому она и имени не могла бы найти, не мог остаться нерассказанным, невыстраданным ею — невыраженный словами, скрытый от нее, он как бы приобретал страшную силу самостоятельного существования, он жил своей жизнью, рос и развивался, как тот мальчик в Анькиной утробе, и мог в любой момент, вырвавшись в реальный мир из мира призрачного, предъявить свои права на нее, на Федора, на Аньку. С ним надо было покончить, а для этого ей надо было знать.
— Рассказывай все, ничего не пробуй скрыть, — сказала она и сама вздрогнула от звона стали в своем голосе.
Несколько секунд они молча лежали в темноте, тяжело дыша, как после долгого бега, и он наконец уступил, подчинился ей, нутром чуя, что причиняемой ей болью частично компенсирует унизительность поражения. И, чтобы усилить ее боль, он заговорил тихо и свободно, сам все больше и больше вовлекаясь в подробности своего рассказа, проживая их наново во всем их стыдном ужасе, остро приправленном ее трепетом, ее мукой, ее соучастием.
Читать дальше