Фалолеев сильно изменился и внутренне: сухость, довольно рано вытянувшая из его тела жизненную силу, молодость и красоту, подгрызла и душу. Единственный глаз, что мог олицетворять принадлежность Фалолеева к роду человеческому, порой казался Григорьеву тоже стеклянным, безжизненным, мертвецким. Фалолеев жадно курил, кривя в затяжках и без того перекошенное лицо, словечки вылетали у него сухо, выхолощенно, будто у робота.
Григорьев тихо поразился одному воспоминанию. Это было прошедшей зимой: дочь, студентка Читинского университета, сидела за компьютером — дорогим и редким чудом американской промышленности, сын учил пушкинский «Зимний вечер», расхаживал по квартире и бубнил себе под нос бессмертные строки: «Буря мглою небо кроет…». Дочь решила всех удивить: она набрала с книжки стихотворение в компьютер, запустила там какую-то программку и, словно цирковой зазывала, взбудоражила всю квартиру: «Сейчас компьютер Пушкина читать будет!»
И точно, из белого пластмассового динамика без чувств, без эмоций, очень размеренно понеслось: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…». Было интересно, что слова, написанные на синем экране, электронная железяка преобразила в речь, в привычную и понятную русскую речь! Но кроме удивления возможностью заморского ящика ничего более не охватило семейство Григорьевых. Синтезированный голос — пустой, равнодушный, не понимающий ни на йоту из того, что заключает он в рождённых микросхемами словах, не способный постигнуть сути сказанного, осознать про мглу и снежные вихри, про обветшалую соломенную кровлю (куда тут понять даже живому американцу — создателю компьютера!), не способный передать того трогательного, человеческого, что Александр Сергеевич вложил в стих, — ни на полмизинца не покорил слушателей.
И когда компьютер, механически бормоча, обратился к старушке, которая приумолкла у окна, Наденька не выдержала и с серьёзным возмущением замахала руками: «Нет, уж нет! Такой Пушкин нам не нужен!» И она, охваченная если не гневом, то недовольством, прочла сама, как буря воет зверем и плачет дитём… как печальна и темна ветхая лачужка… как рвётся автор услышать зимним вечером песню о девице…
И выплеснулась в стихах душа, которая и обязана была выплеснуться, и наполнила их квартиру высоким магнетизмом поэзии… и обрушился на Григорьевых вал трепетного смятения, сквозь который представилась буря, терзающая старую гнилую солому на крыше, и возник образ самого Александра Сергеевича, грызущего раскатанными африканскими губами белое гусиное перо, и будто наяву привиделась Арина Родионовна — лукавая, домашняя старушка, выглядывающая по углам оловянную кружку… и лишь усугубилась наглядно разница между тем, какие духовные высоты способна почувствовать душа человеческая, и тем, что рождённый прогрессом звук есть только звук и ничего более…
Сейчас Григорьев слушал монотонный, сродный с компьютерным голос Фалолеева, видел глаза его — такие разные по природе, но чем-то странно схожие: один стеклянный, неподвижный, немой, и второй — усталый, блёклый, словно с матовой поволокой, и не мог отделаться от ощущения, сколь мало человеческого осталось от того лейтенанта, двенадцать лет назад лихо выпрыгнувшего из-под тентованного кузова ГАЗ-66…
Да что лейтенант! Григорьева вдруг охватило странное чувство, будто весь новый мир, вломившийся непрошеным гостем в его жизнь, жизнь его семьи, подло прокравшийся к его родителям, в полк, армию; воцарившийся теперь уже прочно мир на самом деле тоже вот такой: целиком надломленный, перекошенный, сюрреалистичный, одноглазый. Мелькнула пронзительно перед ним картина былого — высокий, красивый новичок Фалолеев поправляет фуражку-аэродром, тянет для доклада руку… глаза взволнованны и встревоженны, но в них жизнь! Будущее!.. Бога войны будущее!..
«Эх, боги, боги… не сходили мы в атаку, не поднялись! Вроде как не наша это забота была… мда-а… а разгромили нас с другой стороны — новыми начальниками-иудами, бумажками о расформировании… и пойми, что лучше!»
Григорьев спохватился, что прошлое опять пленило его, потащило назад, и, мельком посмотрев на Фалолеева, понял, что не слышит его механической речи, не понимает её смысла. Он стал размышлять, важно это или нет, как из трескучего потока вдруг донеслось слово «Рита».
— Помнишь, Риту-то? — повторяя вопрос, Фалолеев с особой пристальностью уставился на собеседника. Григорьев в ответ взглянул тому в лицо и обнаружил себя в странном фокусе фалолеевского взора, где искусственный чёрный зрачок и живой глаз — оба буравили его насквозь. «Дьявол — и Риту не забыл! — Григорьев заёрзал как на горящих углях. — Впрочем, столько чужих денег хапнуть — куда без дьявола!»
Читать дальше
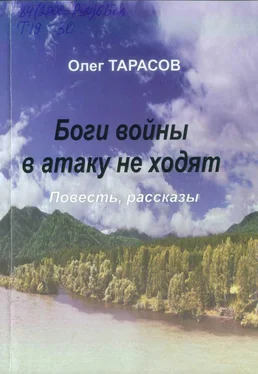



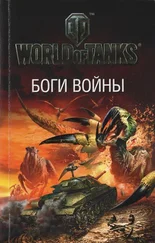

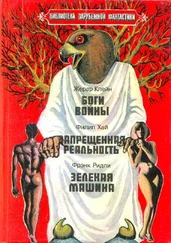
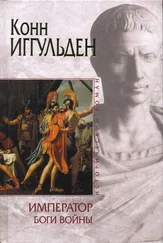
![Виктор Мишин - Боги войны [litres]](/books/384469/viktor-mishin-bogi-vojny-litres-thumb.webp)
![Олег Радзинский - Боги и лишние. неГероический эпос [litres]](/books/430108/oleg-radzinskij-bogi-i-lishnie-negeroicheskij-epos-thumb.webp)
