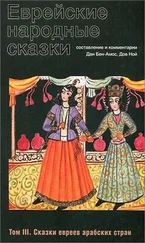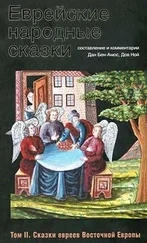Только сейчас, с изрядным опозданием, обратил внимание Ионатан, что новичок говорит с легким акцентом. Акцент этот был так тщательно замаскирован, что расслышать его представлялось почти невозможным: «л» Азария произносил чуть мягче обычного, «р» — более раскатисто, а буква «х» порой звучала у него так, словно он безуспешно пытался проглотить ее. И все же можно было заметить, что парень изо всех сил старается скрыть свой акцент. Возможно, из-за прилагаемых им усилий, а может, из-за того, что слова извергались потоком, временами речь Азарии становилась путаной, спотыкающейся, и тогда он обрывал фразу, не закончив ее. Но, решительно отказываясь сдаться и умолкнуть, в ту же секунду бросался в новую атаку, стремясь победить непокорные слова.
Ионатан подумал: невозможно сравнить наши два одиночества. Если бы удалось, не впадая в ошибку и фальшь, сравнить двух людей, может, нам и дано было бы немного приблизиться друг к другу. Вот и этот тип изо всех сил старается развеселить, порадовать меня, а сам он вовсе не весел. Это искривленное растение: и чувствителен, и задирист, и льстив, и подобострастен. Временами прибывают в кибуц странные типы, навсегда остающиеся диковинными и чужими. И бывают среди них такие, что шумят, переживают, полны энтузиазма, отчаянно пытаются вписаться, раствориться среди кибуцников, соединиться с ними крепчайшими узами, а спустя несколько недель или два-три месяца внезапно исчезают и полностью уходят из нашей памяти, разве что вспоминаются порой какие-нибудь смешные эпизоды, связанные с ними. Как, скажем, вспоминают у нас огромную толстуху, приехавшую сюда два года назад, после развода с мужем, и поселившуюся в кибуце: она избрала предметом ухаживаний не кого-нибудь, а старого Сточника, и его Рахель застукала их неожиданно в клубе, где они вдвоем слушали Брамса, причем старина Сточник сидел у приезжей на коленях. Одни исчезают, появляются другие и, в свою очередь, исчезают тоже… Возможно, новичку кажется, что я представитель всех кибуцников, раз уж прихожусь сыном секретарю кибуца, и все такое, я его проверяю, я ему судья, и он из кожи лезет, чтобы мне понравиться, чтобы я полюбил его с первого взгляда. Но кто же может полюбить подобное существо? Уж конечно не я. И, во всяком случае, не теперь, когда самого себя выношу с трудом. При других обстоятельствах я, быть может, попытался бы отнестись к нему более дружелюбно, может, даже предложил бы успокоиться. Он ведь тут на стены будет лезть, а потом устанет и сбежит. Не суетись, парень, успокойся немного.
Ионатан сказал: «Тебе надо сходить на вещевой склад и попросить, чтобы дали рабочую одежду. В ящике, за бочками с соляркой, лежат сапоги Пайко. Того Пайко, что много лет проработал в гараже. Когда мы вернемся после завтрака, возьмешь себе эти сапоги».
На улице сеял мелкий дождик, тонкий и колючий, словно иголки. От ветра эти студеные иголки становились еще острее, ветер то разбрасывал их в разные стороны, то закручивал в спираль. Он спутывал электрические провода, исполняя некую странную мелодию.
При входе в столовую, возле умывальников, пока они оба ополаскивали руки, Ионатан отметил про себя, что пальцы у Азарии длинные, тонкие и какие-то печальные. Это напомнило ему Римону. А едва вспомнив о Римоне, он тут же увидел ее: она сидела с подругами за дальним столом. Обеими руками, всеми десятью пальцами, обхватила она чашку с чаем. Он знал, что чашка ее полна и что так она согревает свои вечно зябнущие пальцы. На мгновение Ионатан задался вопросом: о чем она думает этим утром — после прошедшей ночи? И тут же сам себя одернул: какое мне дело, о чем она думает, я и знать не хочу, я хочу быть далеко отсюда, и это всё.
На протяжении всего завтрака Азария Гитлин не оставлял попыток подружиться. Он все говорил и говорил, обращаясь к Ионатану и еще двум кибуцникам, подсевшим к их столу, Яшеку и Шимону-маленькому, работавшему на животноводческой ферме. Он назвал им себя и спросил, согласны ли они «открыть ему свои имена». Рассказал со всеми подробностями и необъяснимой радостью о бессонной ночи в бараке, о том, как ровно в полночь, словно в фильме ужасов, услышал за стеной сдавленный, приглушенный голос человека, который то ли проснулся, то ли еще не выбрался из кошмарного сна (уж этого он, Азария, никак не может определить). А затем он увидел призрак, который, похоже, репетировал: это было что-то вроде канторского пения, призрак монотонно повторял библейские клятвы и заклинания на древнем, мертвом языке, возможно на аккадском или хеттском. И еще живописал Азария историю ремонта двигателя, постаравшись выжать из Ионатана похвалы, которые тому пришлось высказать в присутствии Шимона и Яшека. Они были немало удивлены и озадачены, когда услышали от Азарии, что в кибуц он прибыл лишь вчера, и что только после долгих колебаний позволил ему Иолек, секретарь кибуца, остаться здесь с испытательным сроком, и что Иолек с Хавой уговаривали его отдохнуть денек-другой, попривыкнуть, прежде чем приступать к работе, но он доверился шестому чувству и на все уговоры отвечал: «Медлить нельзя — каждый час может оказаться критическим». Поэтому самым ранним утром, едва встав, он побежал в гараж и с первой же задачей успешно справился, — как бы это сказать? — доказал, нет, не доказал, а продемонстрировал, вернее, не продемонстрировал, а оправдал, да, вот так будет правильно, оправдал доверие, оправдал возлагавшиеся на него надежды. Правда, все похвалы следует отнести к его интуиции, а не к уму или таланту. Когда он прослушал шумы в моторе, его вдруг осенило: не силой, как говорит пословица, а хитростью вытащил Иванушка воз. И дальше Азария принялся с упоением описывать озарения, приходившие к нему прежде. В разных местах и по разным поводам, не только в технике, но и в сфере общественной мысли, и в политике, и в музыке…
Читать дальше