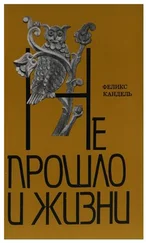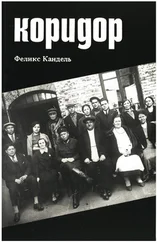К столбу пустили меня. Вернее, в туалет. В сопровождении штатского. У меня были естественные потребности, у него – искусственные. Он делал вид, что ему это очень нужно. Он старался вовсю, но получалось неубедительно.
Потом они заснули, эти штатские. Сначала один, угревшись в комнатном тепле, за ним второй. Два здоровенных мужика дружно посвистывали носами. Они спали, свесив головы, а пес ходил по комнате, от стены к стене, и живот распирало мочой, а голову мыслями. Ему было не понять, почему так грубо нарушается основное собачье право. Право на столб. Этого и человеку не понять, не то, что собаке.
Потом пришел милиционер и увел его из комнаты. Довольно таки грубо, без всякого почтения. У пса была родословная почище, чем у милиционера, – сплошные золотые медалисты до седьмого колена, но он шел покорно следом, не укусил, не залаял даже. Он хорошо знал: за сопротивление властям – тюрьма. А в тюрьму он не хотел. Он хотел вместе со мной в Израиль. Но в Израиль нас не пускали. Вот уже четвертый год.
Его отвезли домой на мотоцикле. С коляской. Под усиленной охраной: милиционер рядом, милиционер за рулем. Вид у него был явно озадаченный. Лоб нахмурен, брови насуплены. Ему предстояло многое переосмыслить заново. Собака, как известно, друг человека. А человек чей друг?..
Этого я не знаю. Этого, по-моему, никто уже не знает. А кто знает, пусть не держит в тайне. Пусть он расскажет моей собаке. Чтобы укрепить в ней пошатнувшуюся веру в человека. Если собаки перестанут нас любить, на чье уважение мы можем еще рассчитывать?
Суд был очень короткий.
Минут пять на каждого.
Максимум, семь.
Ровно столько, сколько надо, чтобы написать приговор.
В здание суда не пускали посторонних. Перед зданием густо стояли машины. Внутри топтались штатские и милиция. Штатских было больше.
Судья мне понравился.
Очень хороший судья.
Такая миленькая, молодая женщина с тонкими чертами лица и красивыми глазками. Глазки я углядел в самый последний момент, потому что она всё время писала. Она даже говорила со мной, не поднимая головы. Перед ней лежали свидетельские показания, и она торопливо переписывала их в приговор. В зале сидели свидетели в штатском. Очевидно, на всякий случай.
Кончив писать, она объявила:
– За неподчинение властям 15 суток.
– Спасибо, – машинально сказал я.
Свидетели в штатском засмеялись.
Потом нас посадили в "воронок" и отвезли за город.
В пансионат "Берёзка".
Поспели к самому ужину.
Попали в одну камеру волк, лиса да гусь.
– Ты за что сел? – спрашивают волка.
– Да я с медведем подрался, морду ему разбил.
– А ты за что села? – спрашивают лису.
– А я с енотом поругалась, хвост ему выдрала.
– А ты, гусь, за что?
– Я вам не чета, уголовники, – гордо отвечает гусь. – Я гусь политический.
– Политический?.. Чего же ты натворил?
– Чего, чего... Пионера в зад клюнул, вот чего!
Первым делом тебя спрашивают:
– Сколько дали?
Вторым делом:
– За что?
Наши ответы их потрясали. Все камеры, затаив дыхание, прослушали одну и ту же историю про избиение и демонстрацию. Потом ее прослушали милиционеры.
Больше всего их поражало, что мы заступились за арестованных товарищей. Больше всего! Они ведь тоже были арестованы, но за них не заступился никто. Это вызывало восторг и страх. Каждый из них никогда бы не рискнул на подобное, а вместе – тем более.
После одного из рассказов из-за стены раздались аплодисменты. Там, за стеной, был карцер. Тот, в карцере, проделал дыру, прослушал всю историю и бурно выражал свой восторг. Когда дыру заделали, он пробил новую.
Уже на другой день мы стали знаменитыми. Такого внимания к нашим особам мы не встречали никогда и, наверно, не встретим больше нигде. Ведь это мы были те самые гуси, что осмелились клюнуть в зад товарища пионера. А это всякому приятно. Даже тому, кто всего боится. Страшно, а приятно.
– Не знают ваши, где вы сидите, – сказал один. – А то бы они собрались и разнесли весь этот барак к черту!
Вот это признание так признание!
Наша жизнь в камере была труднее всех.
Нас не выводили на работу.
Таков был приказ сверху, и выполняли его старательно.
Утром камеры радостно бежали к автобусам, а мы оставались в одиночестве.
Каждый в своей камере.
Было холодно: днем почти не топили. Было голодно: в семь утра – три ложки каши, а обед вечером, когда всех привезут с работы.
Мы дремали на нарах, боком привалившись к прохладной батарее. Мы завидовали остальным. Они дышали воздухом – мы сидели в вони и смраде. Они обедали днем – мы оставались без еды.
Читать дальше
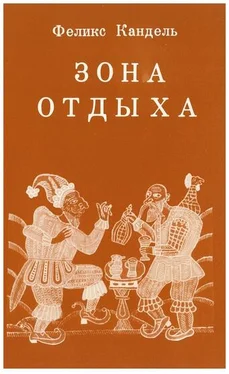




![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)