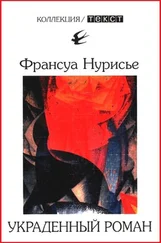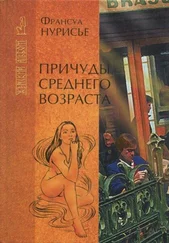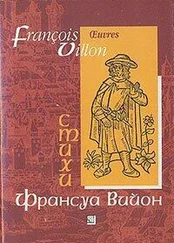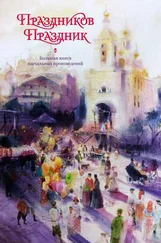Несколько часов назад я с лукавым самолюбованием, которое подстегивается присутствием публики и облегчается возбуждающими средствами, жаловался на превратности встретившегося мне на пути отцовства. Хоть на этот раз обошлось без терзаний! А если этим вечером со мной что-то и произошло, то не более чем банальное злоключение. Семьи покрыты подобными царапинами, зарубцевавшимися, можно сказать, невидимыми. В былые времена случалось, что при вскрытии завещания у нотариуса брови оставшихся в живых родственников на какое-то мгновение поднимались вверх: неожиданно возникший наследник, странное распоряжение, нечувствительная к пересудам «последняя воля» с двадцатилетним либо тридцатилетним запозданием раскрывали уже давно разгаданную тайну. Видели и не такое! В наши дни никто уже больше не получает наследств, да и физическое сходство уже не так, как раньше, волнует семьи. Кстати, и самих семей уже нет. Равно как и детей: Беренис в свои шестнадцать лет, возможно, уже ощутила тяжесть мужчины на своем животе или ощутит не сегодня завтра. Почему бы расстающейся с молодостью Николь не всколыхнуться на глупый женский манер при виде моего нездорового интереса к ее дочери? Может быть, за ее смущенными взглядами, за ее несостоявшимся признанием ничего больше и не было.
Однако я все еще не решаюсь покинуть Эльфенштрассе. Сто шагов в одну сторону, сто — в другую: прямо полицейский на посту. Луна скрылась за соснами, образующими пучину тени в конце улицы. Теперь я уже достаточно трезв, чтобы понимать, что играю комедию. Самую неистовую комедию, без зрителей и аплодисментов, комедию, которую продолжаешь играть только для себя, для того, чтобы позолотить свой образ в собственных глазах. Мое опьянение мечтало предпринять действия, направленные на признание отцовства, а моя трезвость уклоняется; она удовлетворена. Сообщи мне Николь где-нибудь на Пасху 1967 года новость про радостное событие, в котором я, похоже, сыграл свою роль, я не могу себе даже представить, на какую бы только низость я ни пошел, чтобы отговорить ее, убежать от нее. Она это знала. Она лишь предохранила себя от моей трусости. Сегодня Беренис взбудоражила меня, потому что она — дочь других людей, на три четверти сформированная личность, сумма многих сложений, победа и собственность супругов Лапейра. Захватить сокровище — это я умею. А вот собрать его постепенно — нет. Я умею собирать только ощущения, сновидения, намерения, страницы, книги. Я являюсь отцом только моей работы. Я так часто повторял им эту истину сегодня вечером, что еще не забыл ее в момент, когда нужно прижечь рану. Беренис? Я бы не смог создать ее. Это как с домами: все думают, что я люблю их, потому что я их часто меняю и потому что я люблю чужие дома, преимущественно самые красивые, самые роскошные. Однако мои собственные дома всегда были уродливыми, и я не в состоянии их улучшить. Я грабитель, а не архитектор.
Бархатистый темно-коричневый номер «Райнишер Хофа» накрыл в ту ночь сумбур моих мыслей, подобно капюшону, которым накрывают клетку малайского говорящего воробья, чтобы заставить его замолчать. Кончено с бессвязными импульсами, с противоречивыми надеждами. Усталость (когда я возвратил портье его дубленку, сунув ему в руку одну из находившихся в конверте Гроссера бумажек, было уже около трех часов), пустота, сменившая создаваемое амфетаминами ощущение наполненности существования, а главное, открытие, что семнадцать лет назад я в общем и целом дешево отделался, окончательно развеяли навязчивые иллюзии, которые выгнали меня ночью на улицу. Подобно всем моим прежним бурям, стихла и эта буря тоже.
Я разделся. В отеле в эту январскую ночь стояла исключительная жара, и в номере можно было разгуливать совершенно голым, не чувствуя ни малейшего озноба. Так что я разделся догола, разделся и мог сколько угодно созерцать отражение своего тела в зеркалах ванной комнаты. Такого рода зрелище действует как отрезвляющий душ, смывая нелепые надежды и возвращая меня к разумной оценке моего капитала и моих шансов.
Как вы видите, мое поведение в тот вечер и в ту ночь постоянно оказывалось на перепутье между не совсем искренней озадаченностью и непоследовательностью любовной охоты. Когда мы устремляем свой взгляд на раннюю юность, то в нас оживает какая-то смутная, двусмысленная алчность. Она похожа на желание. Даже во время моего общения с Люка я часто отдавал себе отчет в том, что, если посмотреть со стороны, то мое рвение, моя предупредительность и казавшиеся мне необходимыми приемы обольщения, должно быть, напоминают жалкое кокетничанье извращенца, возбужденного присутствием незнакомого подростка. Точно так же, если хорошенько подумать, и понимающие взгляды, которыми отягчала меня, теребя свое ожерелье, госпожа Дю Гуасик, тоже, очевидно, говорили не о том, что какая-нибудь внезапная интуиция или чьи-либо россказни раскрыли ей все еще недоступную мне тайну, а лишь о том, что она считает мое поведение неприличным, что у меня дурная манера демонстрировать на людях влечение к ребенку в том возрасте и при таких обстоятельствах, когда господин моего тоннажа должен был бы уже вернуться в свой порт. Ну конечно же, это абсолютно ясно. Госпожа Дю Гуасик и другие, те, кто в конце вечера откачнулись от меня, видели во мне всего лишь стареющего распутника, неспособного сдерживать свое возбуждение и укрощать свои порывы. Что же касается наверняка бросившегося в глаза смущения Николь, то они приняли его за замешательство хозяйки дома, которая, встретив давнего друга и устроив ему по этому случаю праздник, вдруг увидела, как он, в нарушение всякой благопристойности, крутится вокруг ее дочки. Погрузившись в свои химеры, я прожил не настоящий вечер, в котором я ничего не понял, а какой-то отличный от него параллельный вечер и сделал себя посмешищем в глазах всех присутствующих.
Читать дальше



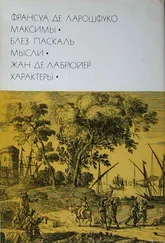
![Брайен Фрил - Праздник урожая [=Танцы на праздник урожая]](/books/93035/brajen-fril-prazdnik-urozhaya-tancy-na-prazdnik-ur-thumb.webp)