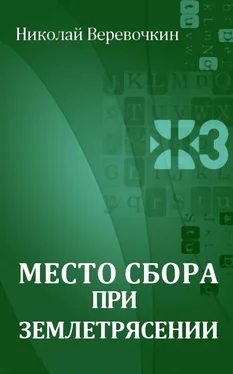— Марк, о чем ты? — удивился Кукушечкин. — Так принято.
— Это несправедливо, — упрямо стоял на своем заблуждении Сундукевич.
— Ой, Марк Борисович, да я только рад не ставить под этой халтурой свою подпись. Меньше краснеть придется, — ответил Дрема с достоинством, сильно замешенном на обиде.
— Это почему халтура? — обиделся в свою очередь Кукушечкин. — Почему халтура?
— А что это такое? — отвечал Дрема, швыряя блокнот на сиденье стула. — Шедевр? Шедевры только господь Бог и Марк Борисович делают.
— И чем же тебе не нравятся мои работы? — прищурившись, тихо спросил Сундукевич.
— Нравятся, всем нравятся, — отвечал Дрема с усмешкой, — главное, они клиенткам нравятся. А я уж, извините, устал суетиться под клиентками. Надоело!
— Стоп! — вскинул руки Кукушечкин, как дед на плакате Моора «Помоги голодающим Поволжья». — Стоп!
— Нет уж! — обрадовался Сундукевич оскорблению. — Нет уж, Гоша, пусть он скажет, что ему не нравится в моих работах?
— Все мне в Ваших работах нравится, Марк Борисович. Вы — наше национальное достояние.
— Тоже мне Жан Эффель нашелся!
— Стоп, стоп! Марк, мы же договорились: Дима не ставит автограф под шаржами. Хочешь совет? Никогда не спорь с людьми моложе себя. Мы же договорились: они всегда правы.
— Это почему?
— Потому что нас не будет, а они будут. Молодые нас просто переживут. Вот почему они всегда правы.
— Да, жизнь продолжается, — мрачно согласился Сундукевич, — и продолжается она без нас. Ты знаешь, что она сказала? Папка, говорит, что ты со своей мыльницей перед миллионершами волчком крутишься? Не позорься. Выбрось. Хочешь я куплю тебе настоящую камеру? Мыльница. Представляешь?
— Обиделся? — спросил Кукушечкин с печальной усмешкой. — А что ты хотел, старый? Девочка просто мстит тебя за свое счастливое детство.
— Что мне обижаться? Камера у меня действительно старая.
Причина плохого настроения Сундукевича появилась после обеда. В ее манере одеваться, двигаться и вести себя читалось откровенное желание быть зверски изнасилованной. Причем самым извращенным образом. Выпуклые прелести ее были туго обтянуты и мелко сотрясались под упругие шажки. Вся она шуршала темной материей и мелодично звенела драгметаллом.
— Люсенька! Красавица! Золотце мое! Очень рад тебя видеть! Очень рад!
Очень! — засуетился вокруг нее Сундукевич.
Но суетился как-то робко. На дальних подступах.
— Я тоже рада, папка, — отвечала брюнетка, холодно отстраняясь от него, и, пронзив Дрему мимолетным, но пристальным взглядом, сердечно обняла Кукушечкина:
— Привет, дядя Гоша! Это тебя я должна ознакомить с коллективом и продукцией кондитерской фабрики?
У нее даже голос — темный, с легкой хрипотцой, изобличающей курильщицу — посветлел.
— Вот только не надо мне угрожать, — отвечал Кукушечкин, нежно заключая роскошную женщину в объятья.
— А что такое? Боишься красивых женщин?
— Нет, я боюсь диабета.
— За какие заслуги перед человечеством, красавица моя, умница моя? — пытался обратить на себя внимание Сундукевич.
— Успокойся, папка. Заплатила по штуке баксов за страницу — вот и все заслуги перед человечеством, — отвечала она небрежно, смутив своей откровенностью творческий коллектив, но даже не заметив этого.
— Тысячу баксов за страницу, — в тихом потрясении повторил Кукушечкин.
— Ах, ты моя умница, ах, ты моя скромница, ах, ты моя красавица, — лепетал Сундукевич, — а я читаю — Люсьена Кощей. Смотрю — ты. Замуж вышла?
— Разошлась я со Змеем Горынычем. Фамилию на память оставила.
— Ах, ты моя красавица…
— Отлипни, папка, а? Дай с дядей Гошей поговорить.
— Подождет дядя Гоша, наговоришься еще. Идем ко мне. Я из тебя шедевр сделаю.
— Сделал ты уже из меня шедевр. Снимать будешь анфас. В профиль нос из книги торчать будет. Думаю, дядя Гоша, пластическую операцию сделать, — она прикрыла нос — не такой уж и большой — рукой, унизанной перстнями. — А?
— Не выдумывай, кокетка, — отвечал Кукушечкин, провожая ее томным взглядом.
— Дочь Марка Борисовича? — спросил Дрема, когда закрылась дверь запретной комнаты.
— Красивые ноги в женщине все, — рассеянно отвечал Кукушечкин. — Красивые ноги — красивая походка. Гордый стан. Роскошная женщина. Как она тебе?
— Как «Черный квадрат» Малевича, — отвечал Дрема. — Потрясает, притягивает, а чем — не поймешь.
— Дочь, дочь. От первого брака. Не вздумай Марка о ней расспрашивать, — сказал Кукушечкин, по лошадиному кивнув головой, будто отгоняя назойливого овода.
Читать дальше