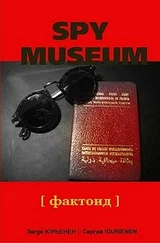Прочий мой род помещался в коробке из-под торта «Жар-Птица».
Это стало ритуалом каникулярных пребываний: «Бабуль? Посмотрим фотографии?» Бабушка высыпала лица на стол, который стоял посреди комнаты и в собранном виде представлял собой квадрат, так что подсесть к разбору верещагинской груды можно было в любом интересном месте. Десятки, сотни лиц. Вот предок в кивере, в мундире с аксельбантами, который опирался на эфес сабли с таким самодовольным видом, что сразу думалось: «Дурак…». Как и оказывалось: прикованный к злату-серебру, не успел бежать в Финляндию из-под расстрела. Вот предок, который надувал щеки и таращил глаза. Умора! Неизменно смеялся, когда снова — через промежуток отсутствия — откапывал этого комика эпохи Большого террора. Был еще предок-инженер, который по причине разбитого сердца наложил на себя руки, и не где-нибудь, а в Лондоне, откуда успел прислать Post Card с изображением (впоследствии сгоревшего) Хрустального дворца всемирной выставки достижений XIX века.
Снимки уходили в глубину, лица стирались и на самых старых, в отличие от платьев, костюмов и мундиров, на самых старых становились пятнышками света.
Отдельно, завернутые в ломкие газеты 37-го года («Постановление ЦИК СССР. В ознаменование 100-летней годовщины величайшего русского поэта А. С. Пушкина Центральный Исполнительный Комитет Союза СССР постановляет…») хранились уже снимки на хрупком, не урони, стекле. Дагеротипы. Бабушка, если не уставала, их разворачивала тоже. Я вынимал двумя растопыренными пальцами, поднимал к люстре. Как в детстве на затмение солнца, смотрел на призрачные силуэты. Все исчезли. Непостижимость захватывала целиком, до свисавших со стула ступней, с которых, несмотря на выгибание их и поджимание пальцев, свалились на пол дедушкины тапки… неужели в момент съемки они жили? После себя ничего мне не оставив, кроме невеселой игры света, они, тем не менее, всем сонмом продолжали настаивать, что именно от них пошел есть я.
Как повторял мне дед: «Ты, внучек, не без роду-племени…» — будто начиная русскую сказку, но тут же теряя нить и просто гладя меня по темени, от якобы «счастливой» макушки ко лбу, гладя и глядя прозрачными глазами, замутненными слезой. Гордыня на это выгибалась. От горшка два вершка, но индивидуальное восставало против родового, впадая в полный солипсизм. «Племя»… Ведь нет же никого, и даже праха, которым все пошло. Есть только я.
Как ни осаживает мама напоминанием о «последней букве в алфавите», но только «Я» и есть.
Четырехкомнатная квартира у Пяти углов, в канун 1917 года отписанная бабушке и дедушке на свадьбу, превратилась в коммуналку задолго до моего здесь появления и самоосознания: в эпоху «уплотнений». В комнату напротив парадного входа вселилась с ордером и дочерью сексотка — проводница «Красной стрелы». В прилегающей к кухне каморке прислуги жила молодая продавщица с прижитой «лялькой». Хозяевам оставили две комнаты, «Большую» и «Маленькую», как тюремная камера, где дед поселил свою сестру тетю Маню и ее дочь. Членов семьи врага народа. Сам враг, бухгалтер Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова, был за того же Кирова расстрелян в подвалах «Большого дома» на Литейном. Дочь врага, родившуюся в 37-м и пребывавшую в пеленках, дед как-то удержал в квартире. Жену/вдову тетю Маню сослали, чтоб не мстила, за тысячу километров на лесоповал. Сосен ей, к счастью, валить не довелось. Прощелкала свой срок на счетах. Потом отправили на фронт — смывать пятно кровью. Кровь, правда, пришлось смывать чужую — в составе женской банно-прачечной бригады. Несмотря на то, что после войны ей удалось вернуться к уже совсем взрослой дочери, на тете Мане лежала тень. Поэтому она была уступчивой, пусть непреклонно-молчаливой. Когда мама привезла сюда из Германии меня и урну отца, тетя Маня с дочкой перебрались в «Большую» комнату.
«Маленькая» комната была еще меньше из-за невероятно толстой печи, рифленая колонна которой немного не достигала потолка. Здесь на пару с мамой оставались мы недолго. Сначала у меня возникла старшая сестра, которую привезли из Таганрога маме — от ее первого мужа, погибшего на Курской дуге с телефонным проводом в зубах. Потом явился бравый гвардии майор, который стал третьим супругом. Затем я сам, правда, с их помощью и на трофейном черном «БМВ»-такси забрал из роддома долгожданного братца. Ему дали другое имя, но я, сначала слушатель, потом читатель «Дальних стран» Гайдара, называл его Чуком давно и с нетерпением. В камере нас стало пятеро. Мне, продолжателю рода и наследнику, вход во владения деда с бабушкой был беспрепятственный, но, несмотря на свободу циркуляции, душа рвалась из этих стен. В «Маленькой» комнате, к счастью, было большое окно.
Читать дальше