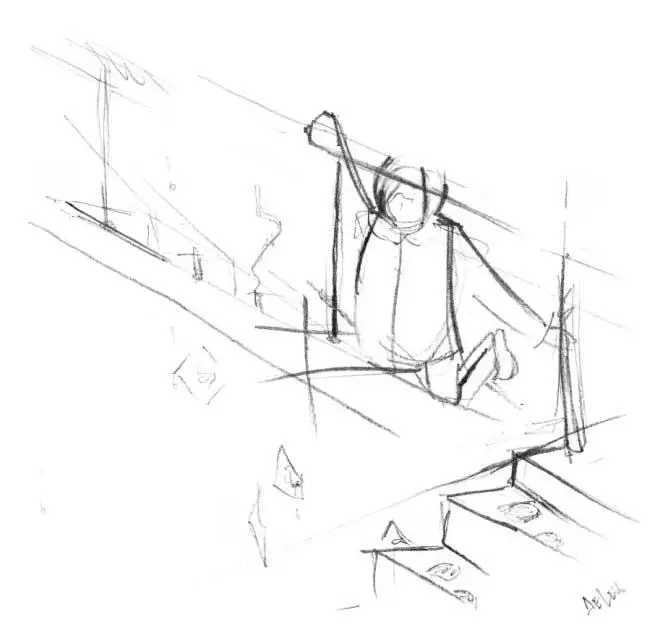Когда я начинал, что было в середине 60-х минувшего века, мне в голову пришла идея под названием «История пролёта». Это было после того, как, ознакомясь с моими опусами, один тридцатилетний питерский прозаик выразил убеждение, что в СССР меня никогда не напечатают. Трагизм. Таких отбрасывают сразу. «А у вас это врожденное. Из-за отца…»
Я знал, что мне себя не переделать. Когда при не рожденном сыне погибает отец «трагически», как тогда золотом оповещали на других, беломраморно-дорогих могилах, трудно ожидать, что на свет появится «солнечный» клоун Олег Попов, а не еще один gloomy Russian [1] Угрюмый русский
. Пророчество я принял к сведению, но все же с Б*** не согласился. Трагизм, то есть, мой главный был в потере Питера. Ту утрату, что с отцом, мне объяснили позже. Но урна с прахом, но простреленная дважды шинель в шкафу, но фото на стене — все это осталось, философски выражаясь, внеположным. Эту же потерю пережил я сам. Она просто стала моей жизнью: невозможность Ленинграда.
Сюда можно было ездить на каникулы, но вернуться было нельзя. Я мечтал, как буду ходить в университет через Дворцовый мост, но когда с аттестатом зрелости открылось уникальное «окно» возможности переменить судьбу, я выбрал не ЛГУ, а Ленинские горы и столицу современной мне империи. Но писал, как и до этого, про Питер. Злоумышляя на неоднозначности слова «пролёт».
Сам по себе — не фигуральный — он был такой, что и сейчас является в кошмарах. Лестничные марши круты и узки, двоим на одной ступеньке тесно. К несчастью, в детстве я возвращался не один, а взрослые — я, мама, говорю о нерадивых — имели обыкновение тащить меня мимо перил. Вид их был ужасен. Деревянные накладки, намозоленные за век руками на подъеме, местами сохранились, чередуясь с железом обнажения основ. С балясинами обстояло еще хуже. До третьего этажа были они чугунного литья, в форме сложных, хотя и поврежденных вензелей с запыленными завитками. Но выше превращались просто в прутья. Выпасть между ними можно было даже в зимней одежде. Но ритм восхождения нарушался еще более серьезными пустотами, поскольку местами прутья были выбиты или, судя по торчащим остаткам, отпилены. Протяжные пустоты были признаны опасными и кое-как перетянуты неколючей проволокой либо веревками от бело-бельевых до разлохмаченно-посылочных. Короткие не ограждало ничего. Эти зияния, врата небытия, мимо которых я всходил из года в год, назойливо приглашали изменить направление и сквозь них шагнуть в пролет.
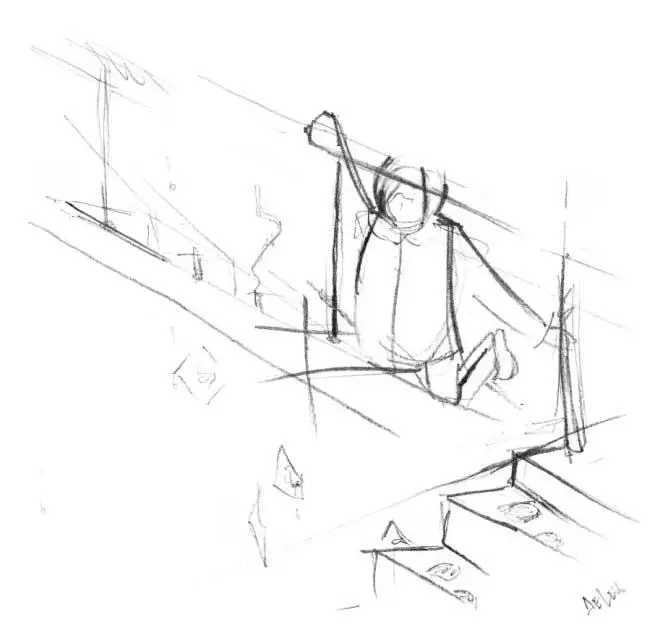
Возможно, звал отец.
Согласно маме, которая возмущенно восставала против религиозного смирения, так говорила бабушка, когда из-за нарыва на шее моя коротенькая жизнь оказалась под большим вопросом: «Папа его зовет». То есть, дескать, готова была меня отдать — «твоя бабуленька». В отличие от мамы, которая за меня боролась и вырвала у Смерти. Все это я «мотал на ус», отказываясь, однако, от сравнений отцовой мамы с мамой меня. Не о них тут речь. Звал ли меня отец, чтоб я скрасил ему одиночество по ту сторону жизни? призывал ли сам род, сочтя, что отпрыск его излишен и лучше ему сгинуть. Тянуло в пролет так, что я уже предвидел, как все это будет, когда гравитация вырвет меня из ничего не подозревающей взрослой руки. Чтобы видения вдруг не стали явью, я отнимал свою руку и, отстав на ступеньку-другую, начинал восходить в одиночку, держась подальше от пустот и обтирая стену. А на нашем полуэтажье, пока взрослый обеспечивал открытие двери, успевал плюнуть с лестницы. Отчасти чтобы на слух измерить глубину падения. Отчасти в смысле: «Вот тебе!»
Сверху было видно, что путь вниз не совсем свободен. Там поперек на разной глубине были приварены арматурные прутья в количестве трех. Не горизонтально, а наклонно между маршами, словно бы их притягивая. Что это были за скрепы? Назначения не понимал и добивался толкования. Отчим ответил: «Идиотов отпугивать! Чтоб в пролет не бросались!» Но если то были препоны, чем же могли они помешать? Сетку, как в цирке, — я бы понял. Но прутья? Пролететь можно и мимо: если правильно броситься. Но даже если натолкнуться? Не остановят. Не предотвратят. Только отбросят, дополнительно искалечив по пути на дно. Не все ли равно человеку, который заранее согласился оставить после себя только «мокрое место»?
Короче, по мере развития рассказа не только «литературоведу в штатском» — дураку было ясно, что ухнул не только вышеозначенный господин, но за ним, по сути, в пролёте оказались все мы. Три поколения, включая автора. Не пожалевшего ни черных красок, ни сенсорики оскорбительной для обоняния патриотов города Ленина. В подвалах у него там мокла вековая древесина. Мусорные баки во дворе распространяли селедочную вонь. «Колыбель революции», естественно, была обоссана. Однако при этом утверждалось парадоксальное отсутствие фекальных ароматов. Уриной — да. Сладковато-алкогольной. Потягивало, а порой шибало. Но не смердело оскорбительно, как в прочих местах СССР, что есть зло бóльшее, как говорится, по определению.
Читать дальше