— Мещанин? — допытывался у арестанта урядник.
— Мещанин.
— Год рождения?
— Одна тысяча восемьсот сорок первый.
— Место?
— Местечко Бобрино.
— А почему раньше скрывал?
— А признание что изменило бы?.. Для того чтобы запереть человека в хлев или сослать на каторгу, не нужны ни имя, ни год рождения, ни документ.
— А что же нужно? — опешил Ардальон Игнатьич.
— Власть и желание, — ответил человек в ермолке.
— И вина, — пробормотал Нестерович.
— Власть всегда может превратить свое желание в чью-то вину.
Ардальон Игнатьич бросил козью ножку, затоптал ее носком сапога, отстегнул ворот рубахи, почесал костяшками пальцев кадык и с почтительным пренебрежением спросил:
— Где это ты, Цви Ашкенази, всего этого нахватался?
— За верстаком, — просто сказал человек в ермолке. — Тыкаешь шилом в подошву и думаешь. За четверть века всякое можно придумать. А порой и дня хватает… Садишься поутру сапожником, а вечером встаешь со стульчика посланцем бога…
— Так ты, выходит, сапожник? — обрадовался Нестерович. — Чеботарь? Это хорошо. Это очень хорошо. Посланец бога — не ремесло. И урядник — не ремесло, — задумчиво сказал Нестерович. — Ремесло — не служба, мастера в рядовые не разжалуешь.
В голове Ардальона Игнатьича вдруг проклюнулась мысль и, как взъерошенный цыпленок, вылезла из скорлупы. Нестерович уже не сомневался, что отпустит этого Ашкенази — никакой он не преступник, просто болтун, доморощенный мудрец, свихнувшийся маленько, но прежде, чем отпустить его, он усадит бродягу где-нибудь в саду, под яблоней, притащит мешок всякой обуви — своей, Лукерьиной, детишек — и пусть все задарма починит и перелатает. А когда починит, пусть катится отсюда к чертовой матери да еще спасибо скажет: за такие речи под яблоню не сажают. Нуйкин цацкаться с ним не станет. У Нуйкина обувь в порядке, из лучших лавок Вильно. Нуйкин в них по грязи не шлепает.
Бесшумно подошла Лукерья Пантелеймоновна.
— Познакомься, мать, — сказал Ардальон Игнатьич. — Цви Ашкенази. Сапожник. Лукерья Пантелеймоновна, супруга.
— Да мы уже знакомы… Нешто забыл, Ардаша?
Человек в ермолке чуть заметно поклонился.
— Цви твои туфли починит… И мои сапоги… те, которые, помнишь, на масленицу купили… У Ванюши каблук отлетел… полгода не проносил, и отлетел… я его на огороде нашел… среди огурцов… новенький совсем. И Катюша жалуется: башмак трет, стелька отвалилась.
— Очень приятно, очень приятно, — журчала, как речка, Лукерья Пантелеймоновна. — Милости просим в избу. Парное отведаете.
Она, казалось, больше всех радовалась его освобождению.
— Спасибо, — сказал пришелец. — Но у меня ничего нет.
— Чего ничего? — насупился урядник.
— Ни колодки, ни дратвы, ни кожи.
— Колодку найдем… И кожу… Найдем, мать?
— Найдем, Ардаша, найдем. Все найдем.
— А за гвоздями и дратвой Ванюша в местечко сбегает. Он у нас шустрый..
— А нож? А воск? — воспротивился было арестант, но взгляд урядника подавил его сопротивление.
— Будет тебе и нож, и воск, — ощетинился Нестерович. Может, этот бродяга облапошил его, провел, как мальца на мякине? Может, он вовсе не Цви и не Ашкенази? Откуда у еврея грузинская фамилия? Объегорил, обставил, каналья! А он, старый дурак, дубина стоеросовая, олух царя небесного, взял да поверил!..
Ардальон Игнатьич готов был простить все: крамольные речи, мнимое сумасшествие, самозванство, убийство вице-губернатора, бегство с каторги или из рекрутов, все возможные и невозможные грехи, но примириться с тем, что он не сапожник, не желал. Он должен быть сапожником. Обязан. Без всяких разговоров…
— Ну? — подстегнул его Нестерович. — Нуйкин или?..
— Или, — утвердительно сказал человек в ермолке, зашагал к избе, и печальная улыбка освещала его путь до самого крыльца.
— Хрю-хрю!
— М-у-у!
— И-го-го! — неслось ему вслед.
Лукерья Пантелеймоновна напоила его парным молоком, достала откуда-то свой старый ситцевый фартук в крупную горошину — что это за сапожник без фартука? — принесла острый, для шинкования капусты, нож с почерневшей ручкой, теплого пчелиного воску (под окнами голубели пять ульев), тупоносый молоток, шило, и человек в ермолке устроился со всеми причиндалами в саду, под голой и кривой яблоней, на которой, как осиротевшие птицы, висели истерзанные червями плоды. Серые, похожие на обуглившиеся молнии, ветки не шевелились, и в их неподвижности было больше печали, чем в их наготе.
Читать дальше
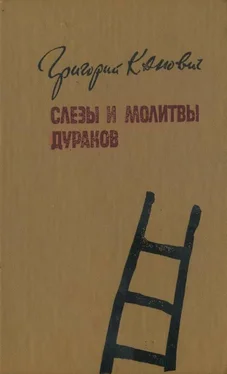








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)