Когда Зайдбург уехал из местечка, — а уехал он первым, — Ицик почувствовал и облегчение, и жалость. С одной стороны, он как бы избавился от искуса, освободился от ласковой, обволакивающей все его существо паутины, застившей глаза, но с другой стороны, лишился того, с кем он мог, хотя бы тайком, хотя бы урывками, впадая в смертный грех, помечтать о другом, запретном и заповедном мире. Прыщавый Семен, оставшийся с ним у рабби Ури, не был в состоянии заполнить образовавшуюся пустоту, возместить неизбежную, больно ранившую Ицика утрату. У прыщавого Семена, несмотря на все его дружелюбие и бесшабашность, были иные мерки. Чаще всего они определялись не богом и не дьяволом, а четырьмя стенами корчмы, и были, пусть не такие мелкие, как у его отца Ешуа, но и не намного выше, чем кабацкая стойка.
После бегства Элханона и ухода Семена Манделя пребывание Ицика в доме рабби Ури с каждым днем становилось все более тягостным и двусмысленным. Порой Ицик ловил себя на мысли, что рабби Ури пригрел его вовсе не для того, чтобы сделать из него пастыря, а превратить в своего крепостного, в служанку Рахели. Ицик и воду таскал, и дрова колол, и полы мыл, и — если жена рабби хворала — горшки из-под нее во двор выносил, давясь от отвращения.
После того как из местечка уехали его товарищи, в Ицике вдруг проснулся дух отца, необузданного, дикого житомирского еврея Габриэля Магида, порешившего на родине урядника. Господи, подумал Ицик, что было бы, если бы отец застал меня ползающим по чужой избе и вылизывающим каждую соринку, каждый плевок? Да он, наверно, придушил бы меня собственными руками, порешил бы топором, как урядника. Он не посмотрел бы на то, что рабби Ури и его жена Рахель двенадцать лет кормили меня, сироту, одевали, учили и готовили в пастыри. Отец не посчитался бы ни с какими доводами разума, ибо породил на свет сына не для того, чтобы он, его сын, стал рабом и ползал по земле на четвереньках. Плевать мне на всю вашу одежду, на все ваши харчи и веру, сказал бы отец Габриэль Магид. Нет такого хлеба, нет такой одежды, будь она из парчи или золота, нет такой веры, ради которых мой сын стал бы рабом. Лучше топор и лес, чем сытое рабство, так сказал бы отец Габриэль Магид.
Но как же, вот так, сразу, после двенадцати лет, уйти из дома, где столько для тебя сделали?
Ицик не мог предать рабби Ури, как Элханон, оставить, как Семен Мандель, устремивший, якобы, свои стопы в ешибот, а попавший в дом терпимости на Сафьянке, где щекотал шлюхам пятки, пока Ешуа не привез его из Вильно домой.
Ицик искал повод.
И повод подвернулся.
Его звали Гурий Андронов.
В местечке потом подтрунивали над Ициком: сменил, мол, рабби Ури на рабби Гурия.
— Послушай, милой! Ты часом не родич того Габриэля?
— Кого? — У Ицика дыхание свело.
— Которого в лесу нашли.
— Родич.
— То-то, ядрена вошь, вижу: как вылитый! Сынок, значит.
— Сын. А вы, что, знали его?
— Маленько. В сопливом возрасте. Вот это был еврей! Сроду таких не видывал! Плечи — во! Ручища — во! Глотка, что колокол! По-русски — ни в зуб ногой, только по матушке… Белую хлестал — батюшки-светы, ну просто загляденье. А ты… как тебя величают… балуешься?
— Меня зовут Ицик.
— Балуешься, Ицик?
— Нет.
— Значит, не в батю. Помню, Габриэль, когда по-нашему научился, говаривал: «Слова, Гурий, как овощи, их поливать надо, чтобы не засохли». Может, говорю, заглянем к Ешуа и — по стаканчику?
Ицик хмельного в рот не брал. Хлебнет на пасху медовой настойки и морщится.
— Ешуа в долг даст, — успокоил Ицика Андронов. — Заработаем — рассчитаемся.
— Вы пейте, а я с вами посижу, — сказал Ицик.
— А ты знаешь, почему вашего брата недолюбливают?
— Не знаю.
— Потому, что все трезвые. Помню, жили мы тогда под Борисовом, братья Бунеевы, сволочи, возьми да погром учини. Всех пощипали, только одного не тронули. Сапожника Меера… С утра пьяным валялся. Пьяный — всегда брат. С пьяного какой спрос? Бутылка всех на Руси братает.
Чего я стою и выслушиваю его бредни, рассердился на самого себя Ицик, и все же поплелся за ним в корчму. Авось, расскажет что-нибудь про отца. В лесу чего только не наслушаешься, даже в сопливом возрасте.
Они пристроились в углу корчмы, Андронов кликнул Ешуа, попросил штоф водки, налил два толстых граненых стакана, один себе, другой — Ицику, положил на дубовый стол узловатые сучья-руки и сказал:
— Ежели хочешь дознаться, кто твоего отца пристукнул, ступай в лесорубы. Я, конечно, не против молитвы. Сам на благовещенье или на покров в церковь хожу, одно время даже певчим был… пока, значит, не осип. И отец твой… Габриэль, значит, какой там ни был, а три раза на дню аккуратно молился. Отойдет в сторону и что-то шепчет по-вашему. После вечерней молитвы и нашли его мертвого.
Читать дальше
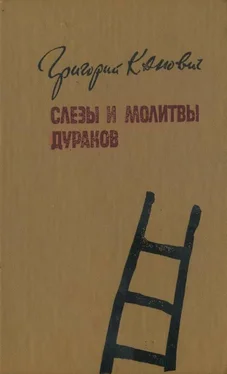








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)