— Губернаторов мне не жалко, но зачем нам в них стрелять? — пересыпая свое удовлетворение корицей осторожности, продолжал корчмарь. — Патроны счастья нам не принесут.
— Червонцы тоже, — вставил человек в ермолке и снова нырнул в молчание.
— Лучше уж червонцами, чем патронами, — зачастил Ешуа, обрадованный ответом. — Червонцами не то что в губернатора — в самого государя императора попадешь. От такого попадания и нам, и властям польза.
— Разве откупишься от ненависти?
— Хоть бы от погромов откупиться… от смерти. Пусть ненавидят, презирают, только дадут жить.
— А зачем жить, когда вокруг ненависть и презренье?
— Зачем? Чтобы до лучших времен дожить.
— Времена не меняются… Во всяком случае для евреев. А ты что, все время чешешься?
— Блохи, — соврал Ешуа.
— А не страх ли тебя кусает? — просто спросил человек в ермолке.
— Страх? А кого, скажи на милость, мне бояться? Тебя?
— Хотя бы, — просто сказал бродяга.
— А чего тебя бояться? Ведь ты такой же еврей, как я…
Ешуа перестал чесать спину и замолк. С обеих сторон Вороньего проселка к фуре подступал лес. Деревья походили на толпу чернобородых вдовцов. Они не двигались, и от их неподвижной густой черноты веяло вечным покоем, небытием и не то благословением, не то проклятьем. И этот странный еврей, примостившийся у Ешуа за спиной, тоже напоминал дерево — черное и поминальное. Пока мы живы, все мы поминальные деревья, вспомнил Ешуа изречение рабби Ури. Все. К кому раньше, к кому позже приходит великий лесоруб, и конец. От него ни ружьем, ни молитвой, ни червонцами не спасешься.
— Почему у тебя такая странная ермолка? — спросил корчмарь и первый раз обернулся.
— Странная? Ермолка как ермолка, — равнодушно объяснил попутчик.
— А булавка?
— Все, что от матери осталось.
— Давно померла?
— Давно. Пьяные убили. Мать этой булавкой тряпицу с деньгами к сорочке пристегивала. Один серебряный рубль и один бумажный… На этой булавке кровь до сих пор не высохла. И не высохнет. Материнская кровь никогда не сохнет. Никогда.
— В кармане надежнее, — сказал растроганный Ешуа.
— Надежнее так надежнее. Но кто же в кармане памятник носит?
Этот бродяга, подумал Ешуа, не простак. Ссориться с ним нечего. Прирученный волк верной собакой служит.
Почуяв близость дома, лошади трусили бойчей, и сумерки омывали их бока, стянутые выпирающими обручами ребер, ласковой, ниспосланной богом, прохладой. Недаром же господь создал лошадь и человека в один день.
Если Ешуа и был с кем-нибудь счастлив в жизни, то только с ними, со своими лошадьми, особенно с гнедой. Потому, наверно, он и дорогу любил. Заяц пробежит, птица вспорхнет, зашуршит придорожная осина, и на душе делается легко и светло, это тебе не в корчме и даже не в синагоге. Ехать бы и ехать и никогда не распрягать лошадей, не переступать порог, ни свой, ни чужой, ибо там, за порогом — суета сует и муки вечные.
— А что ты в наших краях ищешь? — осмелел корчмарь. — Почему дом свой бросил?
— Что я ищу? — человек в ермолке прополоскал вопросом горло, задумался и, прислушиваясь к топоту копыт, ответил: — Мамин серебряный рубль ищу. Тебе он случайно не попадался?
— Где?
— В выручке.
— Нет, — с недостойной уверенностью сказал Ешуа. — Разные монеты попадались… серебряные и, бывало, золотые… А твоей матери — нет..
— А ты откуда знаешь?
— Такой рубль ладонь жжет.
— Неужто?
— Ей-богу. От него наутро волдырь…
— Я все равно его найду.
— Положим, найдешь. Ну и что? Мать за серебряный рубль не купишь.
— Не найду на земле, буду на небе искать, — человек в ермолке поднял голову. — Вон ту звезду видишь?
— Вижу, — обреченно обронил корчмарь.
— Серебряный рубль чьей-то матери, — заметил бродяга. — Закатился туда и светит.
— Как же он мог туда закатиться? — опешил корчмарь.
— Очень просто, — объяснил человек в ермолке. — Все туда закатятся. Все.
— Рубли?
— Все наши матери, отцы, дети… И рубли… Только не все будут звездами светить.
— Почему?
— Чтобы вспыхнуть звездой, надо сперва изойти кровью.
— Говори, говори, — подхлестнул его корчмарь, когда человек в ермолке осекся. — От твоих слов и легко, и страшно. Говори!
— На сегодня, пожалуй, хватит, — устало бросил бродяга. — Да вон и Рахмиэлов овин.
Он что-то скрывает, подумал Ешуа, и тайна сближала его с этим странным, с этим завораживающим евреем. У каждого человека есть какая-нибудь тайна. И у меня она есть, размышлял корчмарь, пристально вглядываясь в темноту, в обвислые конские хвосты, которые — тоже непостижимая тайна — разве даны они лошади только для того, чтобы отмахиваться от слепней?
Читать дальше
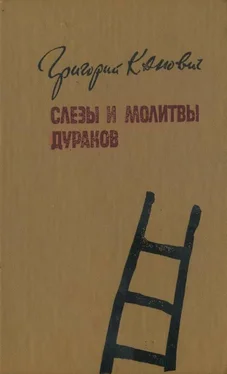








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)