Он сделал вид, что достает из кармана ручку, и улыбнулся, и я улыбнулся в ответ как можно естественнее.
— Очень признателен, Перк, — сказал я, — только это лишнее. Я могу спать где угодно. — Потом, сообразив, что это не самый вежливый ответ, добавил: — Понимаете, Перк, я хотел бы сегодня спать на своей старой кровати. Как в прежние времена.
На это он только молча кивнул, взял чемодан, успев на секунду раньше, чем я, и повел меня в маленькую комнатку, где я прожил столько лет и где лежал пьяный в стельку, помирая от смеха, когда мать прошлась ботинком по моему носу.
— Кровать застелена, — сказал Перк. — И это не только сегодня по случаю того, что я собирался на ней спать: тут всегда было застелено. Правда, иногда она все выносила, чтобы проветрить. Я, когда это видел, поначалу над ней посмеивался, пока не понял, какие у вас были отношения. Я говорил: «Что, он сегодня приезжает?», а она говорила: «Да не-ет, баранья твоя голова, — она всегда любила меня обзывать по-всякому ради шутки, — пусть только попробует явиться в Дагтон, я ему шею сверну. Зря, что ли, я столько сил потратила, чтобы его отсюда выпихнуть? Просто мне нравится стелить ему постель. Вроде как это значит, что у меня в сердце для него всегда есть место. Но от этого города он лучше пускай держится подальше».
— Мне, наверное, надо распаковать вещи, — сказал я и старательно занимался этим, пока он не ушел.
Перк сказал, мы будем ужинать в ресторане — есть тут новый ресторан на автостраде, сказал он и добавил, что сыт по горло своей собственной стряпней и рад всякому случаю поесть чего-нибудь еще. А «ваша мамочка» — он только так ее называл — готовила очень хорошо, просто пальчики оближешь, и любила смотреть, когда кто ест, это уж точно.
И мы пошли в новый ресторан на автостраде, где бифштексы были действительно хороши, а ореховые пирожные — домашней выпечки. Кое-кто из дагтонцев тоже там ужинал, и для каждого, с кем Перк был знаком, он устраивал целую церемонию, представляя ему «профессора», и каждый рассказывал мне, какая у меня была прекрасная мать и как я, наверное, по ней грущу, и все выражали свое соболезнование и говорили, что рады меня видеть даже по такому печальному поводу и что гордятся мной — дагтонцем, который стал «профессором» в Чикаго — или нет, кажется, в Канзас-Сити?
* * *
Потом мы вернулись домой, и Перк развел огонь в камине, сидя перед которым мы долго пили черный кофе. Потом он откупорил бутылку виски. Себе он тщательно отмерил две унции — столько ему разрешала «мамочка» по воскресеньям и праздникам. Он сказал, что я взрослый человек и могу пить, сколько хочу, но я налил себе тоже две унции.
Перк рассказал, что через пять дней после похорон он сидел тут вечером и почувствовал, что больше не выдержит. До этого были похороны, и всякие хлопоты, и потом еще дня два все, кого он встречал на улице, с ним заговаривали — в общем, некогда было думать, каково это будет сидеть тут вечерами. Он сказал, что пробовал молиться, да только никогда не умел. Он говорил: «Боже, Боже, Боже», и больше ничего, и чувствовал, что у него вот-вот что-то внутри оборвется. Он сказал, что пробовал плакать, но слезы не хотели течь. Он сказал, что не удержался, когда сегодня увидел меня, и просил его за это извинить. Но у него было кое-какое оправдание: перед тем, как умереть, в самую последнюю минуту, она сказала, чтобы он поцеловал ее мальчика за нее.
Он сказал, что понимает — надо учиться жить в одиночку, но это просто подлая шутка: чем лучше была у человека жена и чем сильнее он ее любил, тем хуже ему, когда ее уже нет, и тут куда ни кинь, все равно проиграешь. У него когда-то была жена, совсем не такая, и мальчишка вырос никуда не годный, его застрелили полицейские, когда он угнал машину, и развод ему дали легко — так она себя вела.
— А потом, — сказал он, — появилась ваша мамочка, и мне стало приятно открывать глаза по утрам, потому что теперь им было на что порадоваться. Она вроде как поставила меня на правильную дорогу. Научила, как надо жить и ради чего. А я, бывало, ночью лежу без сна и думаю, что бы такое сделать по дому — какой-нибудь там шкафчик сколотить, что ли, или ступеньку починить, чтобы не шаталась, и как она улыбнется и отпустит какую-нибудь свою шуточку, ведь она так любила пошутить.
И теперь, сказал он, ему есть о чем думать по ночам — он может вспоминать, как делал что-нибудь такое и как она бывала довольна. Он всегда неплохо мастерил, и даже теперь иногда ночью ему приходит в голову, что нужно что-то сделать, и он встает и делает. Он сказал, что старается не бросать этой привычки, чтобы все в доме было как надо. Дом-то, конечно, не его, сказал он, упаси Боже, он по завещанию мой, но он надеется, Бог даст ему сил, содержать все в порядке. Она всегда содержала дом в порядке. Как бы тяжело ей ни приходилось на заводе, тут всегда все блестело.
Читать дальше
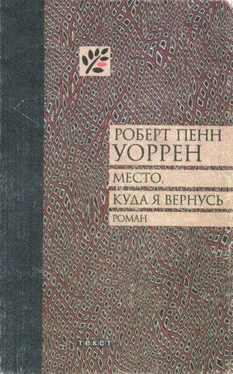





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
