Иногда мы разлучались — например, когда я уезжал на какую-нибудь конференцию, или для чтения лекции, или для получения — уже не в первый раз — диплома почетного доктора, или когда она ездила на свою выставку или получала заказ в другом городе. Правда, на мою первую конференцию в Европе она поехала со мной и на одной из церемоний вручения мне диплома тоже присутствовала, но такие совместные поездки было нелегко устраивать, даже несмотря на то, что ее мать, тоже жившая в Чикаго, всегда с радостью брала Эфрейма к себе. А когда мы оба были дома — и это бывало часто, — все шло в основном как прежде: оба много работали, проявляли неподдельный интерес к работе друг друга, участвовали в достойных общественных делах, добросовестно ходили в гости (все чаще, однако, — к людям ее круга) и возвращались домой, слегка возбужденные дорогостоящей выпивкой, чтобы броситься в постель, обменяться кое-какими предварительными ласками (иногда несколько механическими, иногда чрезмерно изысканными, иногда лихорадочными) и изобразить ту пресловутую зверюшку.
А потом в одно воскресное утро, после того, как мы накануне поздно вернулись из гостей, я немного опоздал к завтраку и увидел, что она делает вид, будто читает газету, на которую капают обильные слезы. Все еще не совсем проснувшись, но будучи в довольно хорошем настроении, я еще в дверях спросил, не ушиблась ли она. Она подняла залитое слезами лицо, на котором было написано такое глубокое отчаяние, какого я еще никогда в жизни не видел, и заявила, что она этого больше не выдержит.
— Чего? — спросил я и направился к ней, намереваясь заключить ее в обычные утренние объятия, но не успел проделать и половины пути, когда выражение еще большего отчаяния на ее лице и выкрик «Всего!» заставили меня замереть на месте.
Вероятно, я был так ошарашен по той простой причине, что как раз перед этим, восстанавливая в затуманенной алкоголем памяти наши действия после возвращения домой, внутренне поздравлял самого себя с тем, какую отменную (во всяком случае, по нашим теперешним меркам) зверюшку мы изобразили. Уязвленный до глубины души, я стоял как вкопанный, а в ушах у меня звучал ее голос, который предложил мне на скорую руку позавтракать, надеть штаны, разыскать Эфрейма и отвезти его на воскресенье к бабушке, чтобы мы могли «ПОГОВОРИТЬ» — это слово так и было произнесено: в кавычках, прописными буквами и курсивом. Я махнул рукой на завтрак, надел штаны, разыскал Эфрейма и отвез его в роскошные бабушкины апартаменты, стараясь не прислушиваться к его болтовне и даже убедить себя, что его вовсе не существует. Насколько все было бы проще, если бы его действительно не существовало! Потом, когда я с ним прощался, мне вдруг показалось, что мое сердце вот-вот разорвется от сознания вины, и я обнял его так крепко, что он вскрикнул «Ой!» и вырвался у меня из рук, не сказав больше ни слова.
В такси по дороге домой я стал припоминать прежние полные радости вечера, проведенные наедине с ним, и при этом обнаружил одно обстоятельство, которое до тех пор всегда старался вытеснить из памяти, — обстоятельство, которое, видит Бог, вовсе не бросает тени на мою любовь к нему. Некоторое время, как я уже упоминал, его одевали на ночь так, как, насколько я понимаю, обычно одевали ребенка этого возраста — в нечто вроде мешка из фланели с зашитыми наглухо рукавами и штанинами и с капюшончиком для головы; все это застегивалось на молнию, и получался такой уютный сверток. Но иногда при виде этого свертка у меня появлялись совсем другие ощущения — панический страх, какой испытывает животное, попавшее в ловушку, боязнь задохнуться, как будто это меня так запеленали. Рывком распустив галстук (если я был в галстуке) и расстегнув ворот, я шатаясь выходил из детской и стоял в темном коридоре, прислонившись к стене и жадно глотая воздух. Если на мне был пиджак или халат, я снимал их, прежде чем снова сесть за работу — источник блаженного забвения. Через некоторое время я, конечно, начинал чувствовать себя идиотом и зашвыривал этот эпизод в самый дальний уголок памяти, куда выбрасывают старые ботинки, давно оплаченные счета, уже не нужные выдумки, в которые больше сам не веришь, надежды, которые питал когда-то, и дохлых кошек.
Но вот я вышел из такси и под солнцем гойского шабата, с ключом в руке, подошел к двери своего дома, где меня ждали полное отчаяния лицо и это «всё», разговор о котором предстоял, — и тут одна из таких кошек, которая, как я думал, валяется дохлая на куче мусора в самом дальнем уголке моей памяти, издала хорошо слышное «мяу!».
Читать дальше
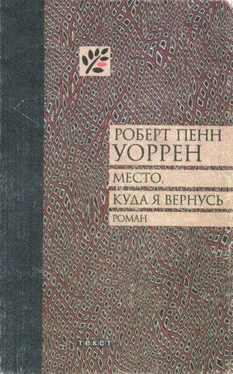





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
