После моего первого возвращения в Чикаго я открыл для себя счастье стоять на берегу озера, подставив лицо режущему ветру со слепящим снегом и ощущая за спиной лишь тундру. Но теперь я чувствовал потребность в каком-то другом, более глубоком определении счастья. Хотя я еще совсем недавно, осев на месте, с головой ушел в свое романтически-стоическое одиночество, на поиски этого нового определения меня толкнуло, наверное, соприкосновение с жизнью людей, которых я знал, — даже та комичная фотография матери с ее новым зубом или последний взгляд, брошенный на Мак-Иннисов, когда за мной уже закрывалась дверь.
И вот мне захотелось, так сказать, внести свою лепту, участвовать в общей работе — короче говоря, встать в ряды человечества. Мне стало казаться, что я всю жизнь куда-то бежал, и теперь, снова попав в Чикаго, где мне, похоже, и суждено было остаться, можно было попробовать сделать что-нибудь такое, что делают, остановившись на бегу, и посмотреть, что из этого выйдет.
Женитьба должна была стать, по-видимому, естественным продолжением этих моих новых исканий, логичным и в то же время приятным шагом к продолжению рода, вроде последней подписи под обязательством всерьез стать полноправным гражданином с перспективой заслужить хорошую репутацию в обществе «Американцы за демократическое действие» или в школьном совете и тем внести свой вклад в будущее Америки.
Я не хочу сказать, что мысленно перечислял по пунктам и раскладывал по полочкам все эти возможности. Но они, как свидетельство надвигающейся старости, постоянно присутствовали в глубине моего сознания, даже когда я поздно вечером последним уходил из библиотеки или из своего кабинета, или когда засиживался допоздна в своей чердачной комнатке, или когда оказывался время от времени на какой-нибудь университетской вечеринке среди преподавателей помоложе (меня все еще к ним причисляли), где отклонял или, что хуже, принимал авансы какой-нибудь особы женского пола, едва мне знакомой, и старался по возможности доставить ей удовольствие, прижимая ее, с разведенными в стороны ногами, к стенке чулана, чувствуя, как шланг пылесоса обвивается вокруг моей ноги наподобие молодого, но энергичного удава, и иногда утыкаясь лицом вместо кудрей моей добровольной жертвы в щетину висящей вверх ногами половой щетки, а ее ручка в это время выбивала на полу морзянкой подробный репортаж о происходящем, никому не слышный из-за бурного веселья или столь же бурных философских дискуссий на кухне, к которой примыкал чулан.
Но на такие вечеринки я ходил все реже, а торопливые объятия в чуланах или на заднем сиденье машины становились еще более редкими, потому что, обретая с годами степенность и памятуя о своем новом личном видении счастья, я стал рассматривать их как всего лишь временные, паллиативные меры. То прежнее, стоическое представление о счастье все больше уступало место стремлению к высшему блаженству, которое сулит приобщение к человечеству, и именно оно, как я уже говорил, побудило меня возложить на себя обязательства гражданина, женившись на весьма презентабельной даме, добившейся немалых успехов в профессиональной фотографии — как репортажной, так и художественной; она была молода, но не слишком, побывала замужем всего один раз, не имела детей и, по-видимому, начинала чувствовать бремя одиночества и такую же, как и у меня, тягу к осмысленной жизни.
Дама, на которой я женился, была не просто презентабельна. Многие, включая и автора этих строк, считали ее весьма красивой — той красотой, которая наводит на мысль о крадущейся львице или о тлеющем лесном пожаре, что видишь только в темноте. Но меня покорила не ее красота сама по себе, как бы очевидна она ни была. Раньше она была красивее — я готов и вполне могу с этим согласиться, ибо это была не кто иная, как Дофина Финкель (ныне — Филлипс), в чьей богемно и роскошно обставленной квартире над бывшим каретным сараем и в чьей постели я в свой первый приезд в Чикаго провел столько времени и получил столько удовольствия, — та самая Дофина, которая была самой молодой и самой прогрессивно мыслящей во всей аспирантуре, имела на своем счету внушительное число отличных оценок, охотно приобщала меня, в ее глазах — экзотического фашиста и линчевателя из южных штатов, ко всем идеям, призванным переделать мир, и которой я, ценой утраты ее мягкой постели, благоуханного дыхания и шелковистой кожи, так грубо высказал свои взгляды на дружбу со Сталиным, ее героем, и Гитлером, теперь вызывавшими у нее лишь отвращение.
Читать дальше
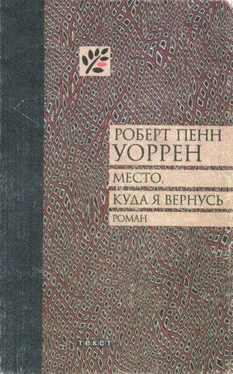





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
