Цвела липа и ужасно сладко пахла, в ее ветвях возбужденно жужжали миллионы пчел и шмелей. Потом жужжание прекратилось, и в один прекрасный день на ветках появились десятки тысяч маленьких зеленых шариков. Это были семена, кстати, тоже с крылышками, которые только и ждали, чтобы ветер подхватил и унес их прочь. По ним я заметил, что лето прошло.
В Пелицхофе живет священник, ему примерно столько же лет, сколько моему отцу. Он тоже ходит в потертых джинсах, и мой дедушка считает неприличным, что он играет в деревенском кафе с трактористами в скат да еще хлещет пиво и тминную.
Однажды я пошел в церковь на органный концерт. Орган там очень древний, ему, наверное, лет триста, и он так расстроен, что на нем можно играть только старинные вещи. Он звучит почти так же громко, как магнитофон на дискотеке, только красивее. Я считаю, что органная музыка — сила. Она такая сильная, что от нее в церкви дребезжат стекла. В церкви сидела куча отдыхающих, все слушали музыку, и лица у них были странные. Мужчины, подперев кулаком подбородок, неподвижно созерцали выложенный дешевым кирпичом пол, женщины, задрав кверху головы, мечтательно глядели на деревянный потолок, словно музыка доносилась оттуда.
Я смотрел на орган. Он не только делал музыку, но и доставлял удовольствие. Под обеими большими органными трубами находились вырезанные из дерева львиные головы. Они высовывали длинные красные языки и ворочали ими из стороны в сторону. Как мне объяснил священник, это называется барочным излишеством. Жаль, что их было так мало.
Отец давно уже снова приступил к работе в городе и приезжал в Пелицхоф на субботу и воскресенье. В конце каникул он сделал такую болезненную зарубку на моей жизни, что боль и по сей день еще не прошла.
Однажды вечером он спросил меня:
— Хочешь пойти со мной купаться, Гиббон?
Стоял безветренный летний вечер, на удивительно голубом небе ни облачка.
— Конечно, — обрадовался я.
Мы захватили полотенца и вышли из дома. Озеро находилось рядом, сразу же за холмом.
Днем на поле трещали и гудели жатки. Они работали до тех пор, пока не собрали весь урожай ржи. Теперь здесь лежали лишь узкие ряды сжатой соломы: длинные светло-желтые полосы на бескрайнем желтовато-буром жнивье. Это было красиво. Мне нравится, когда техника рисует на земле такие чудесные узоры. Солнце просушило солому, и в воздухе пахло тысячами буханок свежеиспеченного хлеба. Кузнечики тоже радовались и от удовольствия издавали высокие стрекочущие звуки, как бы желая обратить наше внимание на тишину вечера.
Кругом была такая красота, что нам не хотелось ни о чем разговаривать. Я обнял отца за талию, он обхватил меня за плечи, чтоб чувствовать, как мы любим друг друга.
Подойдя к озеру, мы наперегонки стали скидывать с себя одежду. А ну, кто быстрее? Я быстрее. И тут же бросились в воду.
Наверное, это прозвучит несколько глупо, но я бы сказал, что вода была как шерсть — такая же мягкая и теплая. Мы бултыхались в ней, словно тюлени, пускали друг другу в лицо фонтанчики и хохотали. Потом мы валялись на берегу голышом и смотрели на озеро, на его ровную, как стекло, гладь.
Камышовый пояс на противоположном берегу был зеленого цвета, кустарник за ним — темно-зеленого, а кроны деревьев за кустарником — такого глубокого зеленого цвета, что выглядели почти черными на фоне светлого вечернего неба с желтой луной. Камыш, кустарник и деревья отражались в водной глади, и луна — тоже. Если не вглядываться, трудно было определить, где настоящая луна: наверху или внизу. Мир удвоился, мир был большим и красивым. Отец бросил камешек в воду, деревья заколыхались и расплылись.
— Гиббон, дорогой мой, мне нужно с тобой поговорить, — сказал отец.
В предчувствии беды у меня екнуло сердце.
Отец сказал, что с матерью им дольше не жить. Мне тут же в голову пришла сцена, вспоминать о которой я не любил: крик матери. «Я старалась, готовила, а этот паршивец воротит нос!» Крик отца: «Могла бы хоть раз приготовить что-нибудь другое, а не свинину в кисло-сладком соусе!» Возмущение матери: «Это же азиатская кухня!» Мои слова: «Не люблю азиатскую кухню». Угроза матери: «Ты будешь есть!» Протест отца: «Не принуждай его!» Содержимое тарелки вместе с ножом летит в кастрюлю. Мать снова шлепает мне в тарелку кисло-сладкий кусок. Потом мне дают деньги на кино или на мороженое. Они больше не любят целоваться, им не терпится поскандалить, и они не хотят, чтобы я мешал им. В результате отец со мной оказывается в Пелицхофе, а мать с большой лысиной на Балатоне.
Читать дальше
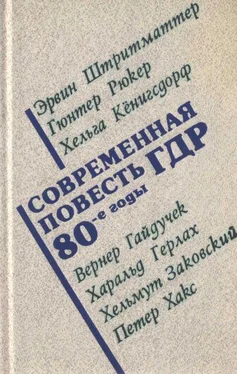







![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)



